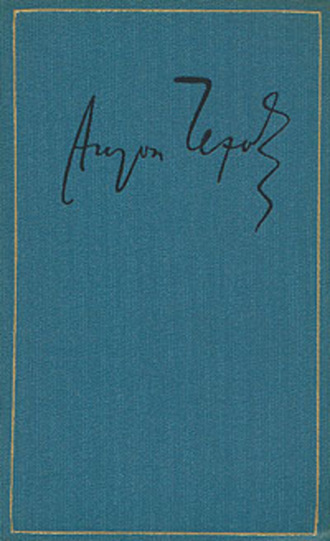
Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884—1885
– Ты откуда это выскочил? – спросил мужчина в маске. – Нешто я тебя звал?
– Прошу не тыкать, а извольте выйти!
– Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку… Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний… Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.
– Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! – крикнул Жестяков. – Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!
– Евстрат Спиридоныч! – понеслось по клубу. – Где Евстрат Спиридоныч?
Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.
– Прошу вас выйти отсюда! – прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.
– А ведь испугал! – проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. – Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил… Хе-хе-хе!
– Прошу не рассуждать! – крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. – Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!
В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.
Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.
– Пиши, пиши, – говорила маска, тыча пальцем ему под перо. – Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз… два… три!!..
Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление, действительно, произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.
В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, – любовью к просвещению.
– Что ж, уйдете или нет? – спросил Пятигоров после минутного молчания.
Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.
– Ты же ведь знал, что это Пятигоров! – хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. – Отчего ты молчал?
– Не велели сказывать-с!
– Не велели сказывать… Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!.. А вы-то хороши, господа, – обратился он к интеллигентам. – Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа… Не люблю, ей-богу!
Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе… Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.
В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.
– Не играйте! – замахали старшины музыкантам. – Тсс!.. Егор Нилыч спит…
– Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? – спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.
Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.
– Не прикажете ли вас домой проводить, – повторил Белебухин, – или сказать, чтоб экипажик подали?
– А? Ково? Ты… чево тебе?
– Проводить домой-с… Баиньки пора…
– До-домой желаю… Прроводи!
Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.
– Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, – весело говорил Жестяков, подсаживая его. – Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу… Ха-ха… А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся… Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!
Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.
– Мне руку подал на прощанье, – проговорил Жестяков, очень довольный. – Значит, ничего, не сердится…
– Дай-то бог! – вздохнул Евстрат Спиридоныч. – Негодяй, подлый человек, но ведь – благодетель!.. Нельзя!..
В приюте для неизлечимо больных и престарелых
Каждую субботу вечером гимназистка Саша Енякина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в «N—ский приют для неизлечимо больных и престарелых». Там живет ее родной дедушка Парфений Саввич, отставной гвардии поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины: вырезанная из «Нивы» купальщица, нимфы, греющиеся на солнце, мужчина с цилиндром на затылке, глядящий в щелку на нагую женщину, и проч. В углах паутина, на столе крошки и рыбья чешуя… Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, беззубый рот вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину.
– Ну, что? – спрашивает дедушка подходящую к ручке Сашу. – Что твой отец?
Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать.
– Всё еще по трактирам на фортепьянах играет? Так, так… Всё это от непослушания, от гордыни… На твоей вот этой матери женился и… дурак вышел… Да… Дворянин, сын благородного отца, а женился на «тьфу», на ней вот… на актрисе, Сережкиной дочке… Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил… Реви, реви, матушка! Я правду говорю… Хамка была, хамка и есть!..
Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая пауза… Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфений Саввич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и заваривает.
– Пейте! – говорит он, наливая три большие чашки. – Пей, актриса!
Гости берут в руки чашки… Чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя: дедушка обидится… После чая Парфений Саввич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее с слезливым умилением, начинает ласкать…
– Ты, внучка, знатной фамилии… Не забывай… Кровь наша не актерская какая-нибудь… Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепьянах трамблянит. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности, но мы важные… Спроси-кася, кем я был! Удивишься!
И дедушка, гладя костлявой рукой Сашину головку, рассказывает:
– У нас во всей губернии было только три великих человека: граф Егор Григорьич, губернатор и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие… Богат я, внучка, не был… Всего-навсего было у меня паршивой землицы десятин тысяч пять да смертных душ шестьсот – и больше ни шута. Не имел я ни связей с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом… Человек как человек, одним словом… А между тем – слушай, внучка! – ни перед кем шапки не ломал, губернатора Васей звал, преосвященному руку пожимал и графу Егору Григорьичу наипервейший друг был. А всё потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей…
После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытье… Говорит он долго, с увлечением.
– Баб обыкновенно на горох на колени ставил, чтоб морщились, – бормочет он между прочим. – Баба морщится, а мужику смешно… Мужики смеются, ну, и сам засмеешься, и весело тебе станет… Для грамотных у меня было другое наказание, помягче. Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу взлезть на крышу и читать оттеда вслух «Юрия Милославского», да читать так, чтоб мне в комнатах слышно было… Коли духовное не действовало, действовало телесное…
Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, «человек подобен теории без практики», он замечает, что наказанию нужно противополагать награждения,
– За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо: стариков на молоденьких женил, молодых от рекрутчины освобождал и проч.
Веселился во время оно дедушка так, как «теперь никто не веселится».
– Музыкантов и певчих было у меня, несмотря на скудость средств моих, шестьдесят человек. Музыкой заведовал у меня жид, а певческой – дьякон-расстрига… Жид был большой музыкант… Чёрт так не сыграет, как он, проклятый, играл. На контрабасе, бывало, выводил, шельма, такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипке не выведет… Учился нотам он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в нем: тухлой рыбой вонял да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку ставить… Расстрига тоже не дурак был. И ноты знал и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дишкантом пел, баба в толстоголосии с басами равнялась… Мастер был, разбойник… Видом был важный, сановитый… Пьянствовал только сильно, но ведь это, внучка, кому как… Кому вредно, а кому и пользительно. Певчему надо пить, потому – от водки голос гуще становится… Жиду я платил в год сто рублей ассигнациями, а расстриге ничего не платил… Жил он у меня на одних только харчах и жалованье натурой получал: крупой, мясом, солью, девочками, дровами и проч. Жилось ему у меня, как коту, хоть и частенько порол я его на воздусях… Помню, раз разложил я его и Сережку, ее вот отца, отца твоей матери, и…
Саша вдруг вскакивает и прижимается к матери, которая бледна, как полотно, и слегка дрожит…
– Мама, пойдем домой… Мне страшно!
– Чего тебе, внучка, страшно?
Дедушка подходит к внучке, но та отворачивается от него, дрожит и сильнее жмется к матери.
– У нее, должно быть, головка болит, – говорит извиняющимся голосом мать. – Пора уж ей спать… Прощайте…
Перед уходом Сашина мать подходит к дедушке и, красная, шепчет ему что-то на ухо.
– Не дам! – бормочет дедушка, хмуря брови и шамкая губами. – Ни копейки не дам! Пусть отец достает ей на башмаки в своих трактирах, а я ни копейки… Будет вас баловать! Вам благодетельствуешь, а от вас кроме дерзких писем ничего не видишь. Чай, знаешь, какое письмо прислал мне намедни твой муженек… «Скорей, пишет, по трактирам буду шататься да крохи подбирать, чем перед Плюшкиным унижаться…» А? Это отцу-то родному!
– Но вы его простите, – просит Сашина мать. – Он так несчастлив, так нервен…
Долго просит она. Наконец дедушка гневно плюет, открывает сундучок и, загораживая его всем туловищем, достает оттуда желтую, сильно помятую бумажку… Женщина берет двумя пальцами бумажку и, словно боясь опачкаться, быстро сует ее в карман… Через минуту она и дочка быстро шагают из темных ворот приюта.
– Мама, не води меня к дедушке! – дрожит Саша. – Он страшный.
– Нельзя, Саша… Надо ходить… Если мы не будем ходить, то нам нечего будет есть… Отцу твоему негде достать. Он болен и… пьет.
– Зачем он пьет, мама?
– Несчастный, оттого и пьет… Ты же смотри, Саша, не говори ему, что мы к дедушке ходили… Он рассердится и будет от этого много кашлять… Он гордец и не любит, чтобы мы просили… Не скажешь?
Вывеска
В Ростове-на-Дону, на Садовой улице, над лавкою одного торговца могильными памятниками висит такая вывеска:
«П а м я т н ы х д е л м а с т е р».
Сообщил Ан. Ч.
О драме
(Сценка)Два друга, мировой судья Полуехтов и полковник генерального штаба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах.
– Я читал Тэна, Лессинга…[41] да мало ли чего я читал? – говорил Полуехтов, угощая своего друга кахетинским. – Молодость провел я среди артистов, сам пописывал и многое понимаю… Знаешь? Я не художник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье! Сердце есть! Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини![42] Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое… фокус какой-нибудь. Да ты чего же не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет!
– Я уже наелся, брат, спасибо… А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно… Сильно пала!
– Конечно! Да ты посуди, Филя! Нынешний драматург и актер стараются, как бы это попонятнее для тебя выразиться… стараются быть жизненными, реальными… На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни… А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект! Жизнь тебе и так уж надоела, ты к ней пригляделся, привык, тебе нужно такое… этакое, что бы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило! Прежний актер говорил неестественным гробовым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался, но зато он был экспрессивен! И в словах его была экспрессия! Он говорил о долге, о гуманности, о свободе… В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги человеколюбия, страдания, бешеную страсть! А теперь?! Теперь, видишь ли, нам нужна жизненность… Глядишь на сцену и видишь… пф!.. и видишь поганца какого-нибудь… жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь… Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца[43] героем, а я бы – ей-богу, досадно! – попадись он мне в мою камеру, взял бы его, прохвоста, да, знаешь, по 119 статье[44], по внутреннему убеждению, месяца этак на три, на четыре!..
Послышался звонок… Полуехтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел… В комнату вошел маленький краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине… Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуехтову письмо.
– Кланялась вам, дяденька, мамаша, – сказал он, – и велела передать вам это письмо.
Полуехтов распечатал конверт, надел очки, громко просопел и принялся за чтение.
– Сейчас, душенька! – сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. – Пойдем… Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку.
Полуехтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять… Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рев.
– Дяденька, я не буду! – услышал полковник. – Голубчичек, я не буду! А-я-я-я-я-й! Родненький, не буду!
Странные звуки продолжались минуты две… Засим все смолкло, дверь отворилась и в комнату вошел Полуехтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери…
– Что это у тебя сейчас было? – спросил Финтифлеев.
– Да вот, сестра просила в письме посечь мальчишку… Двойку из греческого получил…
– А ты чем порешь?
– Ремнем… самое лучшее… Ну, так вот… на чем я остановился? Прежде, бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь! Сердце твое работает, кипит! Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки… видишь, одним словом, прекрасное и… веришь ли?.. я плакал! Бывало, сижу и плачу, как дурак. «Чего ты, Петя, плачешь?» – спрашивает, бывало, жена. А я и сам не знаю, отчего я плачу… На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе… Да, откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагороживает? Кому как не искусству мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки! У меня вот слезы на глазах… Это хорошие слезы, и не стыжусь я их! Выпьем, брат! Да процветают искусства и гуманность!
– Выпьем… Дай бог, чтоб наши дети так умели чувствовать, как мы… чувствуем.
Приятели выпили и заговорили о Шекспире.
Брак по расчету
Часть первая
В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении – ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением.
– Электричество… – бормочет посажёный отец, тупо глядя в свою тарелку. – А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня – понимаешь? – огня, который натуральный, а не умственный.
– Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, – говорит телеграфист, рисуясь, – то вы иначе бы рассуждали.
– И не желаю видеть. Жульничество… Народ простой надувают… Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых… А вы, господин молодой человек, – не имею чести знать вашего имени-отчества, – чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили.
– Я с вами, папаша, вполне согласен, – говорит хриплым тенором жених Апломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. – К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время! Ты какого мнения, машер[45]? – обращается жених к сидящей рядом невесте.
Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной – способности мыслить, вспыхивает и говорит:
– Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.
– Слава богу, прожили век без образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего человека выдаем, – говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. – А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным!
Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться.
– Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство, – говорит он, – а ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу… Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег…
– Это намек! – говорит жених, багровея и мигая глазами.
– И никакого тут нет намека, – говорит телеграфист, несколько струсив. – Я не говорю о присутствующих. Это я так… вообще… Помилуйте!.. Все знают, что вы из любви… Приданое пустяшное…
– Нет, не пустяшное! – обижается Дашенькина мать. – Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое!
– Я ничего… Мебель, действительно, хорошая… но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул…
– А вы не намекайте, – говорит невестина мать. – Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова… А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился… А тебе, батюшка, грех! – обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. – Я ее, может, вскормила, вспоила… берегла пуще алмаза изумрудного, деточку мою, а ты… ты из интереса…
– И вы поверили клевете? – говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. – Покорнейше вас благодарю! Мерси за такое мнение! А вы, господин Блинчиков, – обращается он к телеграфисту, – вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме! Позвольте вам выйти вон!
– То есть как?
– Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон!
– Да оставь! Будет тебе! – осаживают жениха его приятели. – Ну, стоит ли? Садись! Оставь!
– Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы! Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вам выйти вон!
– Я ничего… Я ведь… – говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. – Не понимаю даже… Извольте, я уйду… Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и… уйду, только вы сначала долг отдайте.
Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит.
Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве! Но вот кончается ужин… Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности.
Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для
Части второй и последней
Серое осеннее утро. Еще нет и восьми часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники; у ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах… Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы.
– Не то снег, не то… и не разберешь, что оно такое, – слышатся голоса.
В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих – всё бело.
– Что случилось? – спрашивают прачки у бегущих дворников.
Те в ответ машут руками и бегут дальше… Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает всё.
– Что, родименький, случилось? – спрашивают у него прачки из окна.
– Неудовольствие, – отвечает он. – В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи – девятьсот дали.
– Ну, а он что?
– Осерчал. Я, говорит, того, говорит… Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно… Ишь, сколько пуху! Снег словно!
– Ведут! Ведут! – слышатся голоса. – Ведут!
От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут два городовых с озабоченными лицами… Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано: «Я честный человек, но надувать себя не позволю!»
– Ужо правосудие покажет вам, что я за человек! – бормочет он, то и дело оборачиваясь.
За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек.
– О чем плачешь, молодуха? – обращаются прачки к Дашеньке.
– Перины жалко! – отвечает за нее мать. – Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке – ни одного перышка! Наказал бог на старости лет!
Процессия поворачивает за угол, и Пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.
Господа обыватели
(Пьеса в двух действиях)Действие первое
Городская управа. Заседание.
Г о р о д с к о й г о л о в а (почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе). В таком разе не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брандмейстера Семена Вавилыча, который по этой части специалист? Пускай объяснит, а там мы рассудим!
Б р а н д м е й с т е р. Я так понимаю… (сморкается в клетчатый платок). Десять тысяч, ассигнованные на пожарную часть, может быть, и большие деньги, но… (вытирает лысину) это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысяч можно иметь пожарную команду, но какую? Один смех только! Видите ли… Самое важное в жизни человеческой – это каланча, и всякий ученый вам это скажет. Наша же городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала. Дома высокие (поднимает вверх руку), они кругом загораживают каланчу, и не только что пожар, но дай бог хоть небо увидеть. Я взыскиваю с пожарных, но разве они виноваты, что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек… (расстегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе).













