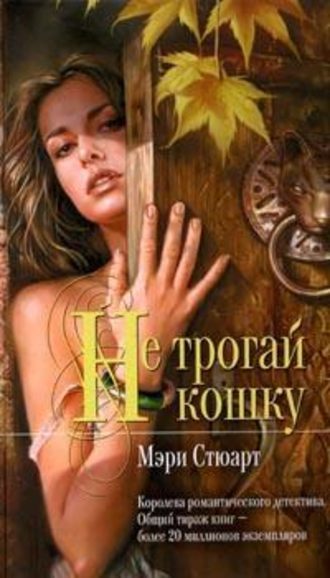 полная версия
полная версияНе трогай кошку
– К утру он очнулся и немного поговорил, очень немного. И не о происшествии. Насколько посмели, мы поспрашивали его, но он как будто ничего не помнил. Его занимало другое.
– Другое?
– В основном вы. Боюсь, я не совсем его понял. Он говорил: «Бриони, скажите Бриони». Он повторил это раз или два, но казалось, не смог выразить словами, что же хотел сказать. Сначала я подумал, он тревожится, что вам не сообщили о несчастном случае, и успокоил его, сказав, что звонил вам, и вы уже едете. Но он все беспокоился. Мы уловили некоторые обрывки, не более того, и никто из нас толком ничего не разобрал, но под конец ему удалось выговорить: «Бриони, моя маленькая Бриони, она в опасности». Я спросил, что это за опасность, но он не смог ответить. Он умер около десяти часов утра.
Я кивнула. Между Фуншалом и Мадридом – я знала точное время. Вальтер продолжал говорить, профессионально ровно и спокойно; думаю, он рассказывал, как папа жил в Ваккерсберге, что они здесь делали, о чем разговаривали. Я ничего не запомнила из его слов, но до сих пор помню каждый лепесток тех голубых гиацинтов в вазе на столе между нами. – И все?
– Все? – Герр Готхард прервался на полуслове и без колебаний сменил тему: – Вы спрашиваете, все ли это, что сказал Джон?
– Да. Извините. Я действительно не поняла...
– Пожалуйста. – Он поднял руку, белую и гладкую, с торчащими волосками. – Я и не думал, что вы поймете. Вы спрашиваете, что еще Джон сказал перед смертью? Вот здесь у меня...
Он засунул руку в ящик стола и вынул какую-то бумагу.
Не знаю, почему я так удивилась. Я уставилась на лист, не двигаясь, не делая попытки взять его.
– Вы что, записали?
– Полиция оставила человека, чтобы он сидел у постели, – мягко проговорил Вальтер, – на случай, если вашему отцу удастся рассказать что-нибудь о происшествии, что поможет найти виновника. Знаете, так всегда делают.
– Да, конечно. Я знала это. Мне кажется, человек никогда не думает о себе в таких обстоятельствах.
– Полицейский очень хорошо знал английский и записывал все, что Джон говорил, даже когда это казалось бессмыслицей. Вы читаете стенограммы?
– Да.
– Здесь все, каждое слово, что удалось разобрать. Большую часть времени я находился рядом. В то утро был еще один срочный вызов, и мне пришлось ненадолго покинуть Джона, но как только он более-менее пришел в сознание, меня позвали, и я оставался рядом до самого конца. Вот все, что я могу сказать. Извините, – вряд ли это что-то прояснит, но как знать – может быть, вы поймете лучше нас.
Он протянул мне листок. Страницу испещряли беспорядочные закорючки, было видно, что писали второпях на коленке. Вальтер через стол протянул мне еще один листок.
– Я сделал копию, просто на всякий случай. Вы можете потом сравнить, если хотите.
Копия была отпечатана без попытки уловить смысл – просто строчки расставленных в кажущемся беспорядке слов и фраз:
«Бриони. Скажите Бриони. Скажите ей. Говард. Джеймс. Должен был сказать. Бумага, она в ручье Уильяма. В библиотеке. Эмерсон, ключи. Кошка, там кошка на полу. Карта. Письмо. В ручье».
Здесь запись прерывалась и дальше начиналась с новой строки:
«Скажите Бриони. Моя маленькая Бриони, будь осторожна. Опасность. Я чувствую это. Должен сказать тебе, но нужно быть уверенным. Я говорил ее (неразборчиво). Возможно, мальчик знает. Скажите мальчику. Траст. Положись. Поступить правильно. Благословение».
Я медленно прочитала это вслух, потом взглянула на Вальтера. Наверное, мое лицо выражало разочарование. Он кивнул, отвечая на невысказанный вопрос:
– Извините. Это действительно все, в точности как мы услышали. Видите, здесь он был не в силах говорить и остановился. Он оставался в сознании и беспокоился, поэтому мы дали ему высказаться. Насчет последнего слова я не уверен. Я думал, это могло означать «Благослови его», но полицейский не сомневался, что «Благословение». Говорит ли вам это хоть что-нибудь?
– Нет. Какие-то обрывки. Ничего такого, что бы стоило упоминать. Можно подумать... то есть, если он знал, насколько тяжело его состояние, можно подумать... знаете, просто какие-то поручения.
– Ну что ж, может быть, эти записи обретут смысл позже, когда у вас будет время подумать.
– Там что-то про письмо. Может быть, в нем все и написано. Он не оставил письма?
Я знала ответ заранее. Если бы для меня осталось письмо, Вальтер сразу же отдал бы его мне.
– Боюсь, что нет. И он ничего не отправлял отсюда в последние дни. Я проверял. Но возможно, вчера он взял письмо с собой, чтобы отправить из Бад-Тёльца. В таком случае оно на пути к Мадейре. Без сомнения, оттуда его отошлют к вам домой.
В последних словах я уловила колебание. Наверное, было что-то странное в мысли, что от умершего придет письмо. Но мне так не казалось. Это был просвет в тучах того мрачного дня. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Вальтер мягко добавил:
– Это только предположение. Если он даже что-то послал, то, может быть, и не вам.
– Я выясню это, когда вернусь домой. Конечно, мне следовало ехать домой, в Англию, и все было уже приготовлено, чтобы я могла отвезти прах отца в наше поместье, как он хотел.
– И что потом? – спросил Вальтер. – Вы собираетесь остаться там?
– Придется, наверное, пока все не уладится.
– Это может занять много времени.
– Конечно. Тут будут чудовищные сложности, но я полагаю, мистер Эмерсон сделает все возможное. Наверное, папа говорил вам, что владения переходят не ко мне, а к ближайшему наследнику мужского пола? Это папин двоюродный брат, Говард Эшли, который живет в Испании.
Вальтер кивнул:
– Ваш стряпчий что-то такое говорил мне по телефону. Он сказал, что не смог прямо связаться с мистером Говардом Эшли. Тот, кажется, болен.
– Да. В последнем письме папа тоже сообщал мне об этом. Вирусная пневмония. Думаю, дядя Говард довольно плох. Полагаю, он еще долго не сможет заниматься делами. Во всем придется разбираться Джеймсу и Эмори.
– Я тоже так думал. Похоже, это одна из тех забот, что занимали вашего отца. Эмори – странное имя, не правда ли?
– Пожалуй. Это старое саксонское имя, оно время от времени появляется в нашей семье. Наверное, это то же, что Элмерик.
– А, тогда я уже слышал его в Германии. Они близнецы, не так ли, Джеймс и Эмори?
– Да, самые настоящие. Когда они были детьми, никто не мог их различить, кроме близких, а иногда, если братья нарочно старались, то и близкие путались. Теперь их различить легче, но и сейчас не поручишься, кто из них кто, если они постараются тебя одурачить. Им по двадцать семь. Эмори старше на полчаса или около того.
– Значительная разница, когда дело касается наследования поместья, – сухо заметил Вальтер.
– Старый, рушащийся дом, который так и не может оправиться от наводнения, что случилось десять лет назад, – так же сухо сказала я, – несколько акров заросшего парка да развалины фермы. Скромное наследство.
– Все в таком упадке? А Джон любил его.
– И я люблю.
– А ваши троюродные братья?
– Не знаю. Почему бы и нет? Они выросли там, как и я. У дяди Говарда был дом менее чем в миле оттуда. Но не знаю, захотят ли они повесить такой жернов себе на шею. Эти старые прекрасные жернова требуют денег.
– Насколько я понимаю, у ваших родственников средств в избытке.
– Думаю, да.
Но захотят ли они потратить их на Эшли – это другой вопрос. Однако я не стала говорить этого вслух. Я не слишком много смыслю в грузоперевозках, которыми дядя Говард занялся несколько лет назад – разве что дело всегда казалось прибыльным. В первые дни, когда фирма была еще довольно скромной, ее контора располагалась в Бристоле, и семейство жило неподалеку от нас – в Вустершире. Потом, когда близнецам шел тринадцатый год, а Френсису исполнилось одиннадцать, их мать умерла, и все трое, по сути дела, поселились в нашем поместье. Каникулы они целиком проводили у нас: их отец неделями пропадал в Бристоле, а его домашнее хозяйство было в таком беспорядке, что моя мать в конце концов вмешалась и взяла всех моих троюродных братьев к нам. У нас в те дни было просторно. Впрочем, у дяди Говарда тоже. Но хотя между ним и моими родителями никогда не было ничего похожего на неприязнь, в одном доме они ужиться не могли. Почти каждые выходные трое мальчишек отправлялись к отцу, пока, пять лет спустя после смерти их матери, дядя Говард не уехал в Мехико на переговоры о какой-то сделке. Там он встретил юную мексиканку и женился на ней. Она была из богатой семьи, ее родители вели торговлю вином. Дядя Говард вел переговоры с ее отцом, Мигелем Перейрой, который владел долей в весьма прибыльном деле в Хересе. Дядя увез молодую жену в Европу, и в конце концов они поселились в Испании. Эмори занял место в бристольской конторе, а Джеймс в основном перемещался между Бристолем и Испанией.
– Захочет ли дядя Говард возвратиться в Эшли? – спросил Вальтер.
– Понятия не имею. Честно сказать, я не так уж хорошо его знаю. Когда он уехал, мне было всего четырнадцать, и большую часть времени я проводила в школе. Жена намного моложе дяди Говарда и вряд ли захочет жить в таком захолустье, как Эшли. Но кто-то из его сыновей может захотеть.
– Сыновья... – проговорил Вальтер, словно обращаясь к самому себе, и я поняла, что он думает о той бумаге, которую я по-прежнему держу в руке. Но он не упомянул о ней. – Насколько мне известно, двое старших заняты в деле отца. А младший?
– Френсис? О, он тоже. У него нет их семейных способностей к бизнесу – он больше похож на нас. Но сейчас он вместе с отцом в Хересе. Думаю, он занялся бизнесом скорее по рассеянности, когда болтался без дела и старался понять, чего же в самом деле хочет. Надо же как-то зарабатывать на жизнь, а Испания – место не хуже любого другого. Френсис – поэт.
– О! – улыбнулся Вальтер. – И хороший?
– Откуда мне знать? Я мало читала стихов, кроме Йитса и Уолтера де Ла Мара. Не хотелось – если учесть, что сейчас печатают. Я ни слова не понимаю в писаниях Френсиса, но я люблю его, так что давайте считать его стихи хорошими.
Очки в золотой оправе сверкнули на солнце.
– Он ведь, кажется, не женат?
– Нет. – Я встретила его взгляд. – И близнецы тоже, доктор Готхард. По крайней мере, не были, когда я в последний раз их видела. Мы с моими троюродными братьями не очень часто общаемся.
(Не считая тебя, мой возлюбленный Эшли! Эмори? Джеймс? Френсис?) Я подняла брови.
– Вы слышали это от папы, да? У него тоже был такой план. Каким-нибудь образом оставить меня в Эшли... Но Френсис явно не годится для этой цели. Нужен самый старший, а это Эмори.
Вальтер улыбнулся:
– Признаюсь, мне пришло в голову нечто подобное. Такое очевидное решение: вы остаетесь в Эшли и ваши дети тоже. Уверен, ваш отец питал смутную надежду, что так все и выйдет. Думаю, он видел ваше будущее там.
– А он не говорил ни с кем?
Я взглянула на лист бумаги в руке: «Я чувствую это. Возможно, мальчик знает». И потом: «Я говорил ее...» Кому? Ее возлюбленному? Меня крайне интересовало, знал ли отец или хотя бы догадывался о моей тайной любви, чтобы рассчитывать на мою пожизненную связь с Эшли-кортом – по праву майората или нет. Впрочем, я была почти уверена, что знал.
– Нет, – сказал Вальтер, – не говорил.
Мои мысли так стремительно унеслись от моего же собственного вопроса, что я не сразу поняла, о чем это он. Вальтер заметил это – он был очень сообразителен, герр доктор Готхард, – и кивнул на лист:
– Вы думали об этом. Поняли что-нибудь?
– Не совсем. Похоже, что где-то есть какая-то бумага – возможно, письмо, о котором он тоже говорил и где написано что-то важное для меня, а возможно, и для дяди Говарда.
– И Джеймса.
– Да, наверное. Но почему именно Джеймса? Я хочу сказать, если папа что-то сказал дяде Говарду, тогда тот мог рассказать об этом сыновьям. Похоже, это семейное дело. Так почему же только Джеймсу?
«Как поиски сокровищ, – подумала я, – таинственные бумаги, письма, карты. Это было не похоже на отца. Джон Эшли был трезвым и прямым человеком. Так что же он хотел сказать? И почему Джеймс?» Вслух я продолжила:
– Этот документ, или карта, или что бы это ни было – он сказал, что оно «в ручье Уильяма». Ну, это полная бессмыслица.
– Понятно. Ручей – ведь это поток, небольшая речка, так? На всякий случай я заглянул в словарь. Больше никаких значений нет. Я подумал, может быть, вы догадаетесь, что это значит.
– Понятия не имею. Вы говорили, что уверены в правильности записи слов?
– Этих слов – да. Сначала он говорил довольно ясно. Я подумал, в Эшли есть какой-нибудь ручей, что-нибудь с местным названием.
– Я не слышала о таком. Уильям Эшли в самом деле был, он жил в начале прошлого века. Его прозвали «Книжник Эшли», он был вроде шекспировского персонажа – такой загадочный самоучка. И еще поэт. Но единственный ручей в наших краях, кроме реки, – это водослив. – Я замолкла, пораженная внезапной мыслью. – Его мог прорыть Уильям. В Эшли есть лабиринт, и в середине Уильям построил павильон, где любил уединяться и писать. Ручей бежит мимо лабиринта.
– «Карта» – карта лабиринта? – предположил Вальтер.
– Возможно. Но не пойму, что тут может быть важного. Путь к павильону я знала всю жизнь, и братья тоже. – Я пожала плечами. – Как ни крути, полная бессмыслица. Как может бумага – карта или еще что – находиться в ручье?
– Согласен. Но следующий кусок более осмыслен. Эта бумага может быть в библиотеке, ключи от которой находятся у мистера Эмерсона. Это он хранит ключи от поместья?
– Думаю, у него должны быть ключи. Один комплект дали съемщикам – они живут в южном крыле, а остальная часть здания обычно заперта, кроме служебного помещения, а поскольку замок открывают для посетителей, то по правилам пожарной безопасности Андерхиллам нужно иметь ключи от запертых помещений.
Он коротко кивнул, и я не стала углубляться, заключив, что папа говорил ему о наших последних съемщиках. Андерхиллы были богатыми американцами и имели собственные дома в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а время от времени снимали жилье тут и там по всему миру. Джеффри Андерхилл был президентом компании «Сакко интернешнл» – строительной фирмы, имевшей правительственные контракты во всех частях света. Их семейство жило в Лос-Анджелесе, пока дочь Кэти училась там в школе, но теперь они на год приехали в Англию, чтобы быть поближе к сестре миссис Андерхилл, чей муж служил на военно-морской базе США близ Бристоля. Что касается мистера Андерхилла, ему было все равно, где жить. Я заметила, что он только выходные проводил дома, а остальное время сновал между Парижем, Лондоном, Мехико и Тегераном, где совершались главные операции компании. Андерхилл говорил мистеру Эмерсону, что не видит ни малейшей разницы, где жить, поскольку приходится возвращаться «домой» в Хьюстон, в штате Техас, на заседания совета директоров, а его жене очень хотелось пожить в «настоящем старом английском доме», и Кэти тоже неплохо пожить здесь, чтобы почувствовать вкус к деревенской тишине и покою. Не берусь судить – я никогда не была в Лос-Анджелесе, – но вряд ли Эшли-корт может что-то дать восемнадцатилетней девушке, к услугам которой все деньги мира. Но американцы остались, им понравилось, и я полагала, что Кэти так и живет с ними.
– Кусок про кошку, – сказала я. – Вам не кажется, что машину могло занести, когда она объезжала кошку или что-то в этом роде? Машина ехала быстро, выскочила на обочину и сбила отца. Правда, он почему-то сказал «на полу».
– Возможно. Полиция так себе это и представляет. На самом деле это было на дороге у леса, и, бог его знает, Джон мог слишком вольно выразиться, говоря про «пол». Может быть, он имел в виду дорогу?
Вот здесь ему пришлось остановиться, чтобы немного передохнуть.
– Но вот последний кусок, доктор Готхард. Тут он выражается довольно ясно. Он говорит, что мне нужно быть осторожной и что существует какая-то опасность.
– Да, в самом деле. – В его глазах появилась озабоченность. – Когда он говорит «я чувствую», то как будто имеет в виду какую-то опасность. Вряд ли Джон чувствовал боль – он был под действием обезболивающего.
– Нет, он не имел в виду боль. – Я набрала в грудь воздуха и встретила взгляд светлых глаз поверх блестящих полумесяцев стекол. – Вы врач, и я не жду, что вы мне поверите, но некоторые из нас – из Эшли – обладают неким... Я могу назвать это свойство чем-то вроде телепатии. Может быть, эмпатия? Вам знакомо это слово?
– Разумеется. Мы говорим «mit fühlen». Способность мысленно проникать в чужие чувства и переживания.
– Да, но в нашем случае не только мысленно, но и на самом деле. Я знаю только, что это происходит между членами нашего семейства. Это что-то вроде приступов, но если кому-то, кого любишь, плохо, то ты это чувствуешь.
– Почему же не поверить вам? – спокойно ответил доктор Готхард. – Это довольно обыкновенно.
– Знаю, вы удивитесь – а может быть, и нет, – однако люди не верят или не хотят верить. Эшли в той или иной степени обладали этим даром еще в семнадцатом веке, когда якобинец Эшли женился на некой красотке по имени Бесс Смит, наполовину цыганке. В конце концов ее сожгли на костре как ведьму. После этого наш дар проявлялся часто, но мы о нем помалкивали. Во всяком случае, это не то, о чем всем надо рассказывать. Кому хочется выставлять себя на посмешище?
– Вы действительно думаете, что ваш отец имел в виду именно это?
– Может быть. Иногда я задумывалась. Мы никогда об этом не говорили, но я почти уверена, что он в какой-то степени обладал этим даром. Однажды, когда я в школе упала с дерева и сломала ногу, через десять минут он позвонил узнать, все ли у меня в порядке. А прошлой ночью на Мадейре... Да, я что-то почувствовала, и думаю, это шло от него. И по пути сюда, утром, в самолете, в десять часов, я поняла, что произошло.
Доктор помолчал. Ранняя пчела, жужжа, залетела в открытое окно, покружила в солнечных лучах, потом опустилась на гиацинты и, сложив крылышки, стала ползать по ним. Герр Готхард пошевелился.
– Понятно. Но к концу, как видите, он утверждает, что «сказал» кому-то – предположительно, сказал об этой важной бумаге и о грозящей вам опасности. Если это в самом деле так важно, несомненно, этот кто-то передаст вам. А если «мальчик» знает, то, возможно, он сможет сказать вам?
Я смотрела на пчелу, не готовая встретить взгляд этих добрых, умных глаз. Про себя я повторяла слова: «Я говорил ее... Возможно, мальчик знает». «Ее – возлюбленному»? Это внесло бы некоторую ясность – значит, отец знал о нем. А если он сказал моему возлюбленному нечто важное для меня, тот передал бы мне, и тайна больше не была бы тайной.
Покинув гиацинт, пчела вылетела в окно, пролетела в волоске от стекла и исчезла. Вальтер выпрямился в просторном кресле.
– Думаю, нам лучше пока оставить эту тему. Ладно? Попытайтесь на время забыть об этом. Через несколько дней, когда вы отдохнете, на свежую голову все станет понятней. Очень может быть, что ответы на все вопросы уже известны мистеру Эмерсону или кому-нибудь из ваших родственников, которые прибудут в пятницу. Кто-нибудь из них, конечно, приедет, чтобы отвезти вас домой? Тот, кто все знает, это может быть «ее» троюродный брат.
– Может быть. Доктор Готхард, вы скажете мне правду?
– Если смогу.
Я поняла по его глазам, что для доктора это означает «если сочту возможным», но это было достаточно честно. И я спросила:
– Если бы водитель той машины сразу привез его сюда, папа остался бы жив?
Я увидела, что настороженность в глазах доктора Готхарда исчезла. Это означало, что он ответит правду.
– Нет. Если бы его сразу доставили сюда, он бы прожил чуть подольше, но я бы не смог его спасти.
– Он не дожил бы даже до моего приезда?
– Думаю, что дожил бы. Речь идет о нескольких часах.
Я вздохнула. Он с любопытством посмотрел на меня. Но я покачала головой:
– Нет, я не думала ни о чем таком драматическом и бессмысленном, как месть. Похоже, это рок, который я всегда чувствую. Но если бы вы сказали «да», я бы не смогла заснуть, пока полиция не найдет этого водителя. А так он уехал, потеряв голову от страха, и, возможно, уже достаточно наказан. Если полиция когда-нибудь найдет его... Я замолчала.
– Да? – спросил Вальтер.
– Я не хочу знать об этом, – прямо ответила я. – То есть я не хочу, чтобы мне сказали, кто это. Не буду обременять себя бесполезной злобой. Папа умер, а я осталась и должна жить. Таковы факты.
Вслух я не добавила, о чем подумала тогда – может быть, он не совсем умер для меня и таких, как я.
Я вернусь в Эшли, и там, возможно... Но я не была уверена, куда приведет этот путь, да и все равно – это была другая тайна, не для дневного света.
Доктор Готхард говорил еще что-то о сверхчувственном восприятии, о моем сходстве с отцом, а потом о приготовлениях к назначенной на пятницу кремации и следующем дне, когда мне уже ничего не останется, кроме как отвезти прах отца домой.
ЭШЛИ, 1835 ГОД
Снаружи в ветвях шумел ветер. Стебли жимолости били по стенам павильона. С тех пор как старик заболел, павильон все забыли. И хорошо, подумал он, скривив губы, отчего молодое лицо показалось мрачным и настороженным.
Он вгляделся в темноту. По-прежнему никакого движения, ни малейшего. Он распахнул окно и прислушался. Ничего, кроме журчания водослива в лабиринте, да шума ветра в буках. Вдруг порыв ветра наклонил тисовую ограду, словно позади нее пролетело что-то невидимое. Душа на пути домой, подумал он, и снова его охватила дрожь.
Хоть бы лучик света. Он захлопнул окно, и звуки ночи затихли. Он поплотнее закрыл ставни и запер их, потом задвинул занавески.
На столе стояла свеча. Он нашел спички и зажег ее. Тут же свет озарил комнату, золотистые занавески, ковер с розовыми гирляндами, богатое покрывало на кровати, поблескивающие канделябры на стенах.
Если случится опять прийти сюда, нужно будет зажечь и их.
ГЛАВА 3
Любезный кошачий царь, я хочу взять всего лишь одну из ваших девяти жизней.
У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт III, сцена 1Приехав в Англию, я не сразу отправилась домой. Первым делом я нанесла визит мистеру Эмерсону, нашему стряпчему, чтобы выяснить, не получал ли он от отца письма и не может ли пролить свет на те записи, что мне показывал доктор Готхард.
На кремацию никто не приехал. Эмори позвонил из Англии – не мне, а Вальтеру Готхарду – и сказал, что дядя Говард все еще тяжело болен, а поскольку Френсис уехал в отпуск, Джеймс не может покинуть контору в Хересе. Сам Эмори в пятницу не может освободиться, но как только сможет, тут же приедет в Эшли. Куда пропал Френсис, он не имеет представления – наверное, бродит где-то в горах. Вероятно, известие еще не дошло до него. Без сомнения, когда вернется, он сразу же позвонит. А пока привет Бриони...
Ну ладно, хватит про троюродного брата, который скажет мне, что хотел сообщить папа, и заберет домой. Хватит про возлюбленного, который не сказал ничего – ни днем, ни ночью!
По прибытии в Лондон я сразу села в поезд, доехала до Вустера и остановилась там в маленькой гостинице, где никто меня не знал. На следующее утро, предварительно позвонив, я пошла встретиться с мистером Эмерсоном.
Это был моложавый мужчина, с виду лет сорока, среднего роста, немного располневший, с круглой дружелюбной физиономией и длинными по моде волосами. У него был маленький, плотно сжатый рот и маленькие проницательные глазки за огромными модными дымчатыми очками, как у шпиона из телевизионного сериала. В остальном его костюм и манеры отличались строгостью и чопорностью. Однако я припомнила, как однажды видела его на рыбалке в заляпанных старых твидовых штанах и потрепанном свитере; его выражения были далеки от литературных, когда, скользя и спотыкаясь о камни, он старался одной рукой вытащить лосося. Он мне нравился, и папа, я знала, полностью ему доверял.
Прошла почти неделя со смерти отца, но Эмерсон не впал в ошибку излишних соболезнований. Когда мы закончили с формальными любезностями, он прокашлялся и, передвигая по столу какие-то бумаги, сказал:
– Что ж, мисс Эшли, вы знаете, что во всем можете рассчитывать на мою помощь... Привести в порядок дела вашего отца – сами понимаете, это займет некоторое время. Вас это не коснется, ведь вам прекрасно известно, каким образом и кому переходит дом и прочее имущество.
Я кивнула. По сути дела, я выросла с текстом положения об управлении собственностью, или «Траста Эшли». Его составил один из моих предков, некий Джеймс Кристиан Эшли, который унаследовал владения в 1850 году. Это был дальновидный человек: даже в вольготные викторианские дни он видел, что могут прийти времена, когда владельцы такого места, как Эшли, могут испытать трудности в сохранении того, что он, Джеймс Эшли, считал национальным достоянием, и даже сами попытаются распылить свои владения. Вот это-то Джеймс Кристиан и хотел предотвратить. Он составил положение о трасте, согласно которому, хотя само поместье должно переходить к ближайшему родственнику мужского пола, никакая часть «указанной усадьбы» не может быть продана или передана в другие руки, кроме как с письменного согласия всех взрослых потомков Эшли, существующих на момент предполагаемой передачи.









