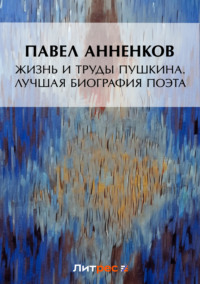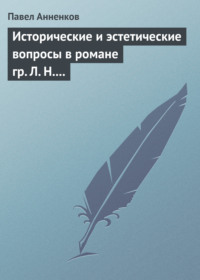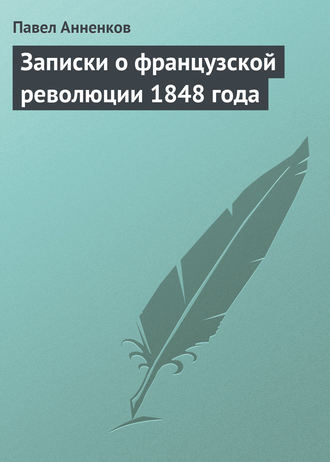 полная версия
полная версияЗаписки о французской революции 1848 года
В это же заседание, вторник 20 июня, за три дня до битвы, Коссидьер, во имя которого она должна была начаться, как бы в тоске ожидания, говорил свою живописную, оригинальную речь, это смешение тривиальных выражений, выражавших глубокое чувство, и резких образов, за которыми светится мысль… Он призывал всех к соединению и говорил: «Unissons nos efforts; jetons toutes nos divisions dans le sac de l'oubli»[308].
Необходимость возвратить руки к земледелию уже признана: «que les hommes d'intelligence en montrent l'exemple; qu'ils ne rougissenet pas de labourer et de gratter la terre»[309].
Он советовал давать простор экспортации, чтобы делать конкуренцию Англии в самой Англии, советовал колонизацию, ассоциации, рассчитку новых земель: «c'est le seul moyen de vous débarrasser de 100 000 bouches inutiles que vous avez dans Paris; autrement avec toute votre police, avec vos 200 000 hommes – troupes, je vous défie d'empêcher qu'un beau matin tout cela ne crève comme une vessie trop gonflée».[310]
Речь произвела сильное впечатление, но этот человек, знавший, как впоследствии оказалось, весь ход заговора, говорил еще: «Nous avons dans Paris 100 000 hommes qui iront sur nos boulevards au moindre trouble; il y a l'or de la Russie, l'or de l'Angleterre, si vous ne le savez pas, qui sèment le désordre»[311].
Эта коварная и неблагородная попытка сваливать на каких-то воображаемых Питта и Кобурга{274} все естественные волнения Франции доказывает, во-первых, ребячество нации и пошлость людей, играющих ее доверием. Поддержанная Флоконом уловка эта впоследствии наделала хлопот иностранцам, но вместе и выказала ничтожество [пошлость] новых государственных людей: за этим слухом уже нельзя более скрыться, как прежде, детям, пожалованным в министры. Покуда происходили таким образом прения о работниках и мастерских, что делалось в последних? Они стояли в полной своей организации, несмотря на несколько строгих дисциплинарных мер нового начальника. [В самый день битвы 23 начальника битвы стали добиваться] Еще в самый день начавшейся битвы, в пятницу 23 июня, вышли первые листки газеты «Journal des ateliers nationaux»{275}, положившей заниматься интересами их. Осторожные попытки Трела отсылать партии работников на серьезные работы, определенные Палатой и на которые уже он получил кредиты, как мы видели, произвели волнение: мастерские понимали, что наступает час их уничтожения, и собирались на отпор. Вербовка шла медленно, люди [поднятые ими] возвращались назад в Париж с дороги или ничего не хотели делать на месте. Большая часть предлагала невозможные условия, волновала бригады и клуб свой. Напрасно Л. Фоше и Фаллу не давали покоя Трела, он выходил из себя, и все оставалось на своем месте. Напрасно, наконец, Правительство настаивало на учреждении конскрипции[312] и приписывании всех молодых холостых работников к войскам (мера, казавшаяся, по справедливости, совершенно произвольной). Напрасно в каком-то отчаянии Палата выказывала свое настоящее мнение о национальных мастерских посредством г. Турка{276}, всегда отличавшегося неистовством своих [убеждений] консервативных убеждений и предлагавшего следующие декреты все принять к рассуждению: 1) возвратить на прежние места жительства всех освобожденных каторжников, 2) возвратить в свои де<партамент>ы работников, не имевших годичного пребывания в Париже, и объявить ворами тех, которые записываются в мастерские, имея способы существования, 3) возвратить [работников в прежние их мастерские] в частные мастерские тех работников, которые прежде там находили занятия, и вспомоществование давать уж не работникам, а хозяевам мастерских, и проч. – все напрасно. Работники государственные не хотели конкуренции, еще менее позорного возвращения за старые станки [в старые], а также [не хотели] масса их, несмотря на несколько групп, высланных в департаменты к серьезным работам, не хотела покидать Париж, говоря с [великой] непогрешимой логикой, что они имеют право требовать или работы в Париже на новых основаниях, или прокормления себя государством, обещавшим им таковое. Положение делалось безвыходным, и суд божий был неизбежен!
В ожидании развязки разброд всех мнений, интересов, настроений постепенно достиг крайней своей степени. Для того, чтобы показать градус разнузданности идей и головной анархии, стоит только [привести] воспомнить о журналистике этого времени. Это был невообразимый нравственный хаос. Каждый день появлялось несколько полулистков с заглавиями одно другого чудовищней, одно другого странней, и крикуны еще более придавали им эксцентрического, фантастического колорита своими затейливыми прибавлениями и пояснениями. На бульварах уже образовались через каждые пять или десять шагов подвижные лавочки, облепленные и заваленные полулистками, из коих многие имели один только №, другие – два-три, будучи простой спекуляцией на любопытстве парижан. [Несколь] Большая часть, однакож, пользуясь свободой от залога, платимого большими, серьезными журналами [вследствие сокращения], что, между прочим, составляло удивительную несправедливость, возможную только в подобные эпохи, – преследовали самые противоположные интересы, иногда самые невероятные цели. Здесь-то появилось то разъединение личностей, которое обыкновенно предшествует междуусобной войне: все мнения, составленные в уединении чердака или погреба, все [чудеса] нелепости, омрачившие мозг человека в минуту отчаяния или едкой нищеты, выползают тогда на божий свет. Рядом с социальными листками [листами] клубов или обществ появился [тогда] в это время «Cabbuliste»{277} [занимавшийся], видевший в новейших событиях поверку старых пророчеств и ими же пояснявший будущность Франции; «Le Christ républicain»{278}, который в революции видел только уничтожение касты попов и, вероятно, издавался каким-нибудь отверженным попом в [туманном] фразисто-мистическом тоне; «le franc-maçon»{279} [призывавший], объявлявший, что наступает царство [греха, лжи] масонства, которое, как известно, основалось еще до потопа, и проч. «la république des femmes»{280} – орган везувиянок, о котором мы упоминали, возвещавший буквально высвобождение женщин из-под мужа. Трудно узнать в запутанные эпохи, что шутка и что добросовестная нелепость: так обе они близко граничат. Я еще до сих пор не уверен в настоящей цели последнего листка, несмотря на следующую угрозу мужьям, в нем помещенную, от имени женщины:
«Qu'une vengeance sans pareilleSoit la leçon du genre humain,Frappons: que les coqs de la veilleSoient les chapons du lendemain»[313].Известно разделение республиканцев на р<еспубликанцев> de la veille и du lendemain.
Далее появлялись каждодневные листки, приучившие публику мало» помалу к приемам терроризма, к которому масса ее питала решительное отвращение: таковы были «l'Accusateur public»{281} Ескироса, «le tribunal révolutionnaire»{282}, «le Pilori». Любопытно было следить, как осторожно они брались за дело: они давали ужасающие названия журналам своим и объявляли, что в основании имеют невинную, благородную и мирную цель. Так, «l'Accusateur» говорил, что в нынешнее время за партией, которая называется des modérés[314], лежит кровь и преступления и что, напротив, партия, именуемая des exaltés[315], должна теперь воздвигнуться для умиротворения и дружелюбного решения всех вопросов. Так, еще «Tribunal» давал описание несуществующего суда, к которому приводили Луи Филиппа, Гизо, Дюшателя, и, после воображаемых прений и воображаемой защиты, присуждали их к различным легким наказаниям в ожидании настоящего суда и более жестоких приговоров. «Le Pilori», заглавная вывеска которого представляла каждый раз новое лицо на плахе: Тьера, Дюпена и проч. и который потом сам рассказывал жизнь своей жертвы в позорнейших красках, прибавляет, что он это делает без всякого намерения оскорбить кого бы то ни было, и проч. Подобное же замечание относится и к листкам с циническими названиями. Помню удивление, произведшее появлением журнала «Aimable Fauborien, journal de la canaille»{283}. Между тем, название было дано, по-видимому, только для приучения слуха к неблагородному слову. Журнал, как и все и многие другие, восставал против партии Мараста и особенно против ее страсти к захватыванию [мест] всех мест. Разумеется, это делалось с помощью трескучих фраз к народу, но читать его было можно, и только в конце какой-нибудь песенки обнаруживалась настоящая мысль листка:
«Sur le grabat où le tient sa blessureDe combattant, héros de Février,Dît à son fils, qu'il console et rassure:«Je dois subir mon destin d'ouvrier:«La mort approche. Afin que je m'en aille,«Certain par toi d'être un jour imité,«Jure-moi bien de mourir en Canaille bis!«Car la Canaille a fait la liberté!»[316] и проч.Один из новых журналов, с названием тоже много скандальным «La Carmagnole, journal des enfants de Paris»{284}, с эпиграфом «Ah! ça ira! ça ira! ca ira!» и двумя рисунками, изображавшими короля, который плачет, и уличного мальчишку, который смеется: «Jean qui pleure, Jean qui rit»[317].
Этот журнальчик ответил на предосудительную и злобную выходку Жюля Жанена против него статьей, превосходно написанной и доказывающей опытную литературную руку. В ней он говорит: «la Carmagnole n'est ni la guerre civile, ni l'émeute,… Laissez-la passer comme un signe de conciliation entre les hommes de la veille que le passé enthousiasme et les hommes du lendemain qui comprennent le passé en saluant l'avenir!!»[318]
Удивительное противоречие намерений и средств. Известный портной-писатель, завистливый и низкий Констан Гильбе{285}, издавал журнал, появлению которого сперва, было, воспротивилось Правительство, – «Journal des Sans-Culottes»{286}. В первое время глаз был поражен страшно этой публичной выставкой [цинического] слова с таким циническим и страшным знаменованием, но когда заметили, что журнал будет постоянным панегириком Мара и не делает никакого намека на человека, что он ратует еще против аристократии и социальные вопросы называет выдумкой дворян, желающих отвлечь глаза народа от настоящего дела, что, наконец, все современные события он ценит только потому, согласны ли они с статьями и брошюрами Мара или нет, – недоверие и страх много поутихли. Все эти непонятные попытки обновить старое, уже невозможное, новым нашли еще бездну подражателей, несмотря на то, что образцы также были подражанием. Бульвары, улицы, переулки, пассажи буквально были завалены журнальчиками в этом роде: «Diogène sans-culotte»{287}, «Gamin de Paris»{288}, «Vrai gamin de Paris»{289}, «République rouge»{290}, «Bonnet rouge»{291} и «Boulet rouge»{292}, «Conspiration des poudres Journal fulminant»{293}. «le Volcan»{294} и т. д. и т. д. Дело только в том и заключалось, чтобы выбрать немыслимо громкое заглавие.
Всех решительней отличался на поприще скандала «Le père Duchêne, gazette de la Révolution»{295} (целая семья Père Duchêne: le Père Duchêne, gazette de la Révolution, le vrai père Duchêne de 1848{296}, le travailleur, par la mère Duchêne{297}, le petit-fils du père Duchêne{298}, le père Duchêne, ancien fabricant de fourneaux{299}, les lunettes du père Duchêne{300} и проч.).
Но и тут [все это были только слабые копии] в этой [отвратительной] копии грязного и подлого Геберта заметна [была] удивительная черта: [никто из них] он еще [не хочет, видимо] не смеет сравняться с образцом и только [старается] берет от него спартанское ТЫ при обращении [смешное в эту минуту] к современным лицам, смешную (по настоящему времени) угрозу: горе вам! Я вас обличу! Да еще уверение, что он раздулся от гнева, что он готов лопнуть от негодования, и проч., но уже нет ни «х», ни «б», ни желчного бешенства предшественника. Впрочем, в нынешнем своем виде он еще был порядком неистов и яростен, но так как убеждения его оказались крайне сомнительными и многими объявлялись подкупленными с иными, совсем не республиканскими целями, то ругательства и провокации его имели только успех скандала, а не направления. Самого «Père Duchêne» превзошли враги и соименники его, другие «père и mère и petit-fils Duchên» в завистливой полемике с ним. Вот как, например, отзывается «le vrai père Duchêne» о вышеупомянутом соименнике своем: «Vieille caricature d'une passé hideux qui ne peut plus renaître, enfant mort-né des saturnales d'une imagination débauchée, ignoble exploiteur de la crédulité d'un peuple trop longtemps abusé, triste avorton d'une piteuse opération mercantile, jusques à quand lasseras-tu la patience du peuple souverain?..»[319]
Другой из этой фамилии «Le petit-fils du père Duchêne» появился вдруг как защитник порядка, благочиния, спокойствия [и обратился с следующей речью к осудившему его] [но защищает его на свой манер] и дал следующее определение собственного дела: «Un brutal, un barbare, un furieux; la rue était son domaine, il aimait à se vautrer dans la fange sanglante… il avait la sagacité du chien, la faim du loup; il était le limier qui menait toute la bande en hurlant»[320] Чудный способ уничтожить влияние имени, прикрывшись этим же именем.
Зато «la mère Duchêne» или лучше «Le travailleur par la mère Duchêne» называет Père Duchêne «vieux pendard»[321] и недовольна его умеренностью: «Si la mère Duchêne est bougrement en colère, c'est qu'elle s'aperçoit que tu ne l'es plus autant»[322].
Это единственный чисто цинический журнальчик, попавшийся мне в руки: «On dit, vieux pendard, que tu t'est laissé séduire par les beaux yeux d'une altesse dite républicaine… Si cela était, sache bien… que la mère Duchêne serait capable d'arracher les yeux rouges de ta poupée politique… Si encore tu te laissais enjôler par les fille du peuple, on te le pardonnerait, vieux scélérat, mais par ces langues dorées de bourgeoises décrottées, qui puent la viande humaine, fi donc, vilain, monstre d'homme! Ou oublies-tu que la sueur du pauvre a humecté les lèvres que tu baises?… Jette ta princesse dans le panier aux ordures, sinon la Mère Duchêne se divorce, de par les crétins qui veulent nous faire des lois pour eux»[323].
После подобного тона, конечно, можно усомниться в справедливости заметки моей о какой-то невольной, может быть, временной сдержанности журнализма при всей его распущенности, но ведь это единственный экземпляр. Говорили мне, что в предместиях издаются журналы возмутительного содержания, которые даже не заходят по сю сторону Бастилии, говорили, что есть журналы, даже не печатные, а литографированные в этом духе, раздающиеся только членам тамошних самых опасных клубов: des Antonins{301}, Quinze-vingt{302}, называли мне и имена их: le va-nu-pieds{303}, l'incendiaire{304}, но я никак не мог добыть их. В коллекцию мою случайно попался журнал под заглавием «la Guillotine» на красной бумаге с портретом Л.-Филиппа, показывающего грудь свою, на которой вырезана гильотина. Но, во-первых, он кажется простой спекуляций, а во-вторых, имеет две «адписи: 1793. Tout le monde y passera, – и другую: 1848. Persone n'y passera, a в-третьих, отличается тем сантиментальным изложением истории изобретения гильотины и первых ее жертв, которое как будто нарочно придумано, чтобы приучить к мысли об инструменте и к назначению его!
Затем бесчисленное количество социалистских листков, в которых теории Сен-Симона, Фурье, Л. Блана, Прудона перемешивались в каком-то удивительном хаосе [в котором почти], который еще раз свидетельствовал, как научные и теоретические истины, пущенные в народ, целиком перепутываются в его сознании… Случилось здесь то, что почти всегда бывает: от каждой теории взяты были ее резкие стороны, только выпуклые мысли, бросающиеся в глаза массе, сущность же ее, требующая размышления, оставалась в стороне. Так, в «la France libre»{305}, который издавался, говорят, бывшим учеником Политехнической школы, теория Прудона об изменении собственности во владение (possession) превратилась в уничтожение [собственности и капитала] и того и другого. Теория Луи Блана об участии государства в заказах обратилась в теорию ссуд денег всякому ни под что и с тем вместе по необходимости в теорию [надсмотра] надзора за должниками и гарантию против банкротства, [так всегда]. Но это высказано запальчиво и обнаруживает в писателе представителя множества клубных социалистов. Нельзя упоминать обо всех этих листках, журнальцах, которые [возвещали] говорили, требовали социализма, коммунизма, раздела собственности в тех общих фразах, затвержденных наизусть у главных представителей различных теорий, которые поясняются предшествующим и последующим, но, вырванные из полного учения, только кажутся инструментом для возбуждения страстей. Так, «Spartacus libérateur du peuple»{306} взял эпиграф из Прудона «la propriété-c'est le vol»[324], но у «его это положение, весьма обоснованное Прудоном, выходило просто-запросто призывом к истреблению грабителей-имущих. Подобное же значение имело у него и все экономические фразы учителей, как-то: le droit des travailleurs à l'intégrité de leurs produits[325] и проч., из которых выходило в результате не обновление общества [совершенное, простое], а совершенная невозможность существования какого-либо общества. Что касается до журнальцев, занимающихся участью женщин, как-то: «la Politique des femmes»{307} и др., то ничего темнее, запутаннее представить нельзя, хотя опять [в отрывочных положениях встречаются] тут беспрестанно встречались отрывки из положений людей, впервые поднявшие этот вопрос. Были, впрочем, листки, издававшиеся для народа и знатоками дела с примесью, разумеется, отчаянной политической полемики. Таков был листок фурьериста de Bonnard{308} «le Salut social journal des droits de l'homme, rédigé par les opprimés»{309} и листок с. – симониста Эмиля Барро{310} (Barrault) «Tocsin des travailleurs»{311}. Барро отличился еще потом письмом к Ламартину, в котором ловко доказывал, что его политика примирения должна привести непременно к междуусобной войне и ненависти всех партий лично к Л<амартину>. Взятые в общности все стремления социальной хаотической журналистики июньских дней чрезвычайно хорошо выражаются следующим журнальным декретом, напечатанном в каком-то листке: «Au nom du peuple français: Article Ir – Il n'y a plus rien. Art 2 – La Commission du pouvoir exécutif rendra une loi pour assurer l'exécution du présent article»[326].
Таким образом, мы упомянули о двух видах журналистики: террористической и социальной. К ним примкнул еще третий с половины июня – наполеоновский. Здесь представилось явление, указывающее, как должно ценить большую часть этих народных газетчиков. Один из издателей «Père Duchêne» г. Deschamps{312} отделился от редакции его и сам издает журнал «le Robespierre»{313}, в котором он заставляет говорить грозного человека от самого себя разный вздор. Все статьи журнала были подписаны Максимилиан Р<обеспьер>. В них Робеспьер гуляет по улицам и объявляет, что он не доволен тем-то и тем-то, и отзывается о себе следующим образом: «je rentre dans la carrière de la révolution-que j'avais quittée jeune encore – mûri par 60 années de méditations sur les découvertes du génie humanitaire»[327].
И дает советы не брать с него примера. Между прочим, он заявляет: «Des imprudents parlent de rétablir une cour prévotale pour juger sommairement les patriotes qui sont à Vincennes. Peuple souverain! par pitié pour les réacteurs tu ne le permettras pas: il y aurait là le germe du tribunal révolutionnaire, que repoussent nos moeurs de 1848…!»[328]
Правда, подобная попытка заставлять говорить деятелей старой революции от собственного имени уже была сделана в мае месяце журналом «le vieux cordelier, drapeau du peuple»{314}, который вывел на сцену аттического Камиля Демулена и вложил ему в уста следующую речь: «Bourgeois puisqu'il faut t'appeler par ton nom, si ta bouche conspue la foi et le génie; si, doué soudain du courage de la peur, tu veux arrêter la République dans son essor vers les grandes choses, je, suis là pour te faire rentrer dans ton marais, moi, adorateur du bien, du grand, du juste, moi artiste, moi, Camille Desmoulin. ((NI)»[329].
Как бы то ни было, но г. Deschamps издавал своего «Робеспьера» до тех пор, пока не обнаружилось наполеоновское движение, и тогда он вдруг бросил Максимилиана и стал издавать журнал «Napoléon républicain»{315}, в котором точно так же заставляет гулять Наполеона по улицам и точно так же говорить про себя глупости: «Je n'étais pas né pour la guerre»[330] и давать следующие советы народу: «Souviens-toi que tu es le seul souverain et que tes représentants sont tes commis»[331].
Впрочем, были примеры внезапных странных переворотов и посильнее: Так, какой-то г. Guillemain{316} в один день издал «l'Aigle républicain»{317} с энтузиастическими песнями в честь бонапартистского времени, а на другой «les lunettes du père Duchêne» с такими же во славу терроризма. Наполеоновская литература разрасталась, однакож, вместе с движением на улице: тогда посыпались один за другим листки: «le Napoléonien{318}», «le Petit caporal»{319}, «la Redingote grise»{320}, и проч. и проч., и наконец листки и большой журнал, занимавшийся уже кандидатурой и будущим значением Луи Бонапарта. Название его носило симптом той же путаницы идей, которая существовала в народе и которой старались обмануть народ: «la Constitution, journal de la république napoléonienne!»{321} Он называл противников Бонапарта оскорбителями народа: les insulteurs du peuple – и, однакож, вскоре умер. И вообще в это время Б<онапарт> не имеет еще серьезного значения. К этому надо еще присоединить листки сатирического содержания, выходившие тоже в неограниченном количестве. Иногда они поражали сочетанием шутки и какого-нибудь страшного события. Так, например, «le Pamphlet»{322} при известии о кровавом мщении негров Мартиники{323}, получивших известие о февральской революции и требовавших свободы, сказал, что знаменитые слова: «périssent les colonies plutôt qu'un principe»[332] должны быть нынче изменены в другие: «périssent les colonies suivant les principes»[333]. Впрочем, все остальные журналы этого рода: «Diogène sans culotte», «Gamin de Paris», «le Cancan»{324}, «les bêtises de la semaine»{325}, «le canard»{326}, «le diable rose»{327}, и проч. и проч., были довольно пошлы. Демократия вообще смеяться не умеет, и род блестящей искрометности и надменного презрения, требуемой для политической насмешки, остается преимущественно за роялизмом. Так было и здесь. Одним только легитимистским и филиппистским листкам, как «le petit homme rouge»{328}, «le lampion»{329} и др., удалось сказать несколько едких острот.
Последний журнальчик, чисто легитимистский, отличался даже в это время тем неимоверным количеством позора, который выливал он на Исполнительную комиссию и республиканских действователей. Между прочим, один раз он сказал, что если Барбес заболеет, то не следует поручать его товарищу по тюрьме, доктору Распайлю, ибо как ни огромны его преступления, но смертная казнь уничтожена во Франции. В другой раз он объявил, что Иисус был казнен по требованию народа, а так как это известие оскорбляет величие народа, то придется издать декрет, по которому казнь Иисуса должна будет считаться отныне делом национальной гвардии той эпохи, и проч. А клевет на лица, а оскорблений, а ложных известий – бездна! [Часто смеялся] Забавны были также комические изложения заседаний Парламента в журнале «la Séance»{330}. Исключение из нашего правила составляет демократически-сатирический журнальчик «l'Epoque»{331}, который иногда очень удачно пародировал старую известную эпоху и закоренелые мнения Одиллона Барро и др. Если к этому присоединить еще попытки восстановления журналов, знаменитых в 1830 году, как-то: «le bon sens»{332}, «le tribune»{333}, «Figaro»{334}, попытки, кончившиеся вообще неудачно, то приблизительно можно получить понятие о всем этом каждодневном хаосе журнальном, где беспрестанно сталкивались воспоминания всех минувших эпох с плохо понятыми требованиями современности, (неразборчиво) с истинным увлечением, настоящая нелепость с поддельной глупостью и особенно вражда одного класса общества к другому. Последнее только и было знаменательно и действительно реально во всем этом движении. Несмотря на [резкость] оглушительный шум этих тысяч голосов, нашелся журнальчик «l'organisation du travail»{335} – приверженец теории Л. Блана, который успел покрыть разладицу и обратить на себя внимание. Он напечатал в двух своих №№ списки банкиров и торговцев с показанием их капиталов и списки землевладельцев с показанием их доходов (№ 8 и 9). Как ни преувеличены и ложны были цифры, но в эпоху всеобщего бедствия и нищеты, они были прямым указанием народу, где искать пособие и добычу. Это уже выходило из ряда личных оскорблений и взаимных обвинений партий, и поэтому один депутат потребовал отчета у министра юстиции, какие меры приняты для наказания дерзкой провокации и вообще, что сделалось с залогом (cautionnement) журнальным, который преимущественно назначался для обуздания их издателей. Министр Бетмон сознался, что, действительно, старые большие журналы имеют этот залог, но что многие и вновь явившиеся его не имеют, что он видит в этом большую несправедливость, что Правительство имеет наклонность определить залог для всех вообще журналов, но когда и как представит оно закон по этому предмету – оно само не знает этого (всеобщий смех). В таком положении находилось Правительство. В другом оно и не могло быть. Напрасно уже сам «National» взывал к Исполнительной комиссии: мы вас поддерживаем, но, ради бога, покажите же, что все управляется. Управлять было нельзя – и только первые пушки, раздавшиеся в Париже, поставили на истинной почве вопрос: кто будет править Францией.