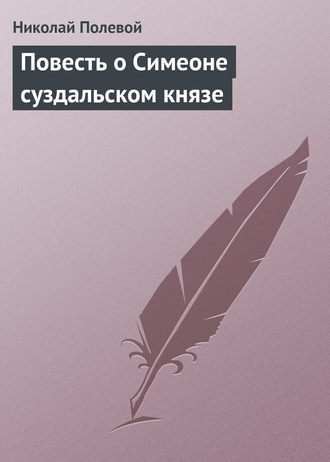 полная версия
полная версияПовесть о Симеоне суздальском князе
Когда Киприан кончил чтение и безмолвно преклонил голову в смутной думе, кто-то постучался в дверь келии и проговорил тихо: «Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!»
– Аминь! – отвечал Киприан.
Дверь отворилась. Князь Василий Димитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Димитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного и сурового вида. Морщины уже видны были на челе его и показывали в нем ум твердый, нрав неуступчивый. Богатый бархатный терлик и шитый шелками охабень были на него надеты, и сабля его блистала дорогими каменьями. За ним шел старец;, высокого роста, седой, но еще не согбенный летами: то был князь Владимир Андреевич Храбрый[28]. Бояре следовали за ним. Между ними был и толстый Белевут, Инок Димитрий низко преклонился перед всеми и вышел.
Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложа руки. Потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены и крашеные скамейки показывали, что митрополит здесь сидит иногда, наслаждаясь прохладой вечера. Долго смотрел Димитрий в растворенное окно, как тени вечера ложились на окрестные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вблизи полукружием около Воробьевых гор. Перебирая четки, повторял он: «Дивны дела твоя, Господи, яко вся премудростию сотворил еси!» Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.
Не понимая, зачем могли призывать его в совет князей и бояр, инок шел робко. Подходя к келии митрополита, он услышал многие голоса – заметно было, что говорят с жаром. Димитрий вошел в келию. На столе горели две свечи. Князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприана. Бояре стояли в отдалении. Разговор прекратился.
– Князь! – сказал Киприан, – инок сей мудр и благочестен. Ты можешь вверить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.
Князь молча вручил Димитрию свиток.
То было письмо грека, издавна жившего при дворе Ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще хану Муруту, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех после Мурута ханов Золотой Орды. Димитрий просмотрел письмо, и руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей и бояр. Трепещущим голосом начал он читать и переводить:
«Как единоверного государя и благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой Орды решена. Тимур-хан победил. Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князя Витовта[29] областях. Но горе нам, горе твоей Руси, горе благоверной Византии! Огонь и меч Тимура сравняли ханские терема с землею – уже нет ханского Сарая; погибло великое, погибло и малое: и мое убогое стяжание расхищено. Не забудь, государь, меня, твоего доброхота и радушника! Пишу к тебе, государю, среди развалин, потоков крови и груд смердящих трупов. Тьмы тем татар Тимурхановых, как саранча, хлынули на берега Волги, и ни возраст, ни пол, ни род, ни сан – ничто не избегло гибели, посрамления и неволи! Железа недостает на цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из бичей, посылаемых на человеков гневом Божиим, пред коими исчезают и глад и хлад, равняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, между царством Попа Ивана[30] и Скифиею Великого, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от старейшины, Тимур, свирепый, лютый, кровожадный. Говорят, что три звезды упали на небе, когда он родился, и гром трижды загремел зимою. Он был разбойник. Сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими зельно бит. Они изломали ему ногу. Он же перековал ногу железом, и от того наречен Темир-Аксак, иначе же Тамерлан, иже переводится Темир-хромец. И завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синия Орды[31] исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари и князи и военачальники, богу гордым и злобным на время попускающу. Тимур хочет перейти пучины Окияна и победить весь свет, и взять Индию и Амазоны и Макарийские блаженные острова[32]; и уже приял он Ассирию и Вавилонское царство и Севастию, и Армению и все тамошние орды попленил, и се имена их: Хорусани, Голустане, Ширазы, Испаган, Орнач, Гинян, Сиз, Шибрен, Саваз, Арзанум, Тефлис, Бакаты и ныне Сарай[33] Великий и Чегадай, и Тавризы и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтее, и приял Шамахию, и Китай, и Крым. Шел он на Орду безвестными степями; шесть месяцев не видал ничего, кроме неба над головою и песка под ногами; за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается – страшно изречь – человеческою плотию! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по вся дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом великим и печалию пребывают. Грозится Тимур достигнуть и второго Рима, великолепной Византии, и обтечь всю землю. И слышу, что царь наш Мануил Великий[34], не забывший и прежние богопопустные скорби, печалуется единому Богу и на Него единого возлагает упование…»
Здесь слезы заструились из глаз Димитрия, и бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.
– Владыко! что нам предпринять? – спросил Василий, не изменяя своего угрюмого вида. – Мы ждали битвы Тохтамыша – она решила гибель его… Теперь настала чреда Руси. Темир-Аксак идет на нас.
«Князь! На Бога возложи печаль твою и молись! Тот, кто источил воду из камня жезлом Моисея, кто рукою отрока Иесеева поразил Голиафа, не попустит тебе и православию погибнуть!»
– Но должен ли я безмолвный ожидать грядущего бедствия? Хочу стать с оружием против врагов церкви и отчизны моей, хочу поставить щит свой против злого хищника!
«Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старшего летами, – сказал князь Владимир. – Так некогда мы думали с отцом твоим и шли бороться против безбожного Мамая. Какая великая година чести была Русской земле, когда мы в полях Куликовских пели победную песень на костях врагов! Богу угодно было моей руке предоставить удар, от коего пал Мамай и рассыпалась гордыня его. Но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву. Суетны надежды человеческие! Нейди сам на беду и жди, пока не придет она!»
– Должно ли мне сказать дружинам, отвсюду ко мне идущим: идите вспять – я не смею вести вас на битву? Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир-Аксаку и раболепно преклонить пред ним колени?
«Нет! будь на коне, но не ратуй. Стереги Москву и молись о спасении. Тщетно оружие там, где гнев Божий ведет грозу и погибель!»
– Так, князь, таково и мое мнение, – сказал Киприан. – Бог, без чьей власти не погибнет и влас с главы твоей, защита вернее воинства.
«Владыко! ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с безутешными детьми, старцев, отчаянных на краю гроба! Нет! Я пойду отсюда, пока плач жен и вопли детей не погубили моей силы душевной! Прошу тебя, князь Владимир, быть в Москве и защищать ее, и если мы падем в неравной битве – твои лета и твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставлю тебе».
– Князь – отвечал Владимир, – очисти же себя от греха, прекрати усобицу, губящую Русскую землю – умири совесть твою и не отринь совета старца – отдай Нижний Симеону!
«Нет – тому не бывать! Вспомни, князь Владимир, что я запретил даже говорить мне о Симеоне!»
– Князь! Вспомни о бедствии, грозящем России, вспомни, что в день суда Божия горе будет человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда твоего и дядей твоих, но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Симеону его наследие!
«Не говорите мне ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир, – я не отдам Нижнего!»
– Страшись и блюдись, да не постигнет тебя бедствие, которое ты готовишь другим!
«Нет! Не на того падет гнев Божий, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Симеон и Борис противятся мне – они противники власти, данной мне от Бога, а не законные наследники, и меч правосудия тяготеет над главами их! Так я думаю, так должны все думать».
* * *– Молод, а умен, – сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая свой боярский ферезь, – молод, а умен князь наш! Никто не уговорит его выпустить из рук; что однажды ему попалось. Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и Суздаля! – прибавил он, обращаясь в Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему, стоя подле дверей.
– Садись, – сказал Белевут, отодвигая дубовый стол от лавки, – садись и поговорим о деле.
Некомат сел и придвинулся к боярину,
– Слушай: князь наш одобрил все, что я сделал. Завтра объявят торжественно о присоединении Нижнего к Москве, и тебя и Замятию допустят к князю как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам – загляденье!
«Печорских аль сибирских соболей, боярин?» – спросил Некомат, усмехаясь. Белевут захохотал.
– Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как было оплошал ты, вступившись за Симеона! Теперь все у тебя цело, все сохранно…
«Слепота, батюшка боярин, слепота окаянная пришла на меня! Тут недобро было – демонское наваждение влекло меня, прости Господи!» – Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.
– То-то слепота, старая ты голова! Надобно слушать добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и почестью.
«И Замятню, боярин?»
– Да, ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал место, где лежало оружие, серебро, и золото сообщников Симеона, выдал нам все, и сам не только не явился на площадь, да и других отводил…
«Боюсь что-то я за его верность, боярин! Если уж он передался вам без кривды, то сам бог передает в руки князю Василию Димитриевичу сердце врагов его».
– А я так очень хорошо понимаю Замятню, и знаешь ли, что вот этакой-то душе всего скорее вверяйся – глуп или, что называется, добр! Ты да я, мы летим туда, куда нам хочется, а его просто ветер уносит, дует, а к тому же Замятня богат, как Аред!
«Ну, Бог знает, боярин, – животы смерть окажет[35]!» – сказал Некомат с усмешкою.
– Полно, Некомат! Он и не заикнулся, когда я попросил у него… на княжеские расходы… чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет себе по Москве, да и только! Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! я верю Замятне – да, это дело сторона, а поговорим о нашем другом деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен ты, что ль?
«Боярин! хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодчик, а моя Ксения – девка на возрасте».
– Отлагаю все до приезда князя Василия Димитриевича в Нижний. Видишь: завтра вас примут и дадут вам облобызать княжескую ручку, а там поезжайте и готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испить вашей волжской водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь теперь у нас завороха, что и Господи упаси – тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще черный ворон налетает на Русь, и бог весть откуда! Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, идут сюда… Бабы да старики воют, еще ничего не видя!
«А что же, боярин, ты думаешь?»
– Что думать! Живи не как хочется, а как Бог велит! Разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Наш боярин Кошка, смотри, как ладит с ними! И то правду сказать – голова умная!
Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.
Жребий Нижнего Новгорода был решен. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприана – ничто не могло склонить князя Василия Димитриевича на милость к Симеону и роду его. Участь князей нижегородских оставалась еще неизвестною. Князь Борис томился в темницах суздальских. Симеон и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские – иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города. О многих – ничего не было слышно…
Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Димитриевич был в Москве, кипевшей воинскою деятельностью. Спешили оканчивать вооружение войск, собирали деньги, ожидали вестей. Слухи из Орды замолкли, но то была зловещая тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом, перед последним страданием смерти – она не успокаивает его; холодный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят об его разрушении – он жив, но на него уже веет могилою – он предчувствует то близкое мгновение, которого содрагается все живущее!
Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались на Россию. Но так и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России, несколько лет прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненною рекою.
Церкви московские были наполнены народом. День и ночь слышались молитвы и воздыхания молящихся.
А страсти не умолкали и на краю бездны! Сердце человека! Содрогнется тот дерзкий, кто осмелится заглянуть в тебя – содрогнется и побежит от самых обольстительных надежд и мечтаний своих, как бежит, содрогаясь, суеверный юноша при взгляде на гроб своей подруги, на ее лицо, обезображенное смертью и тлением!
* * *Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Димитрий Александрович Всеволож с дружиною московскою выступил навстречу Московского князя. В Нижнем готовились встретить его торжественно. Жители были в больших хлопотах: вынимали и готовили праздничные платья, чистили улицы, даже мыли домы снаружи. Белевут беспрестанно окружен был воеводами, просителями, искателями милостей, приезжими из нижнегородских городов. Бояре, гости, почетные люда; нижегородские: толпились у него в светлице; обеды превращалисьв пиры, и часто старики забывали идти к заутрени после бессонной до белого света ночи, проведенной в гульбе у Белевута или какого-нибудь богатого гостя. Но никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня. Золото и серебро блистали на столах его. Две бочки малвазии выписал он нарочно из Москвы, и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал бы их слушать, каких-то добрых людей, которые всегда ворчат и на которых угодить трудно!
В веселом разгулье прошло две, три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псальмы; в другом заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная, темная ночь облегла город и окрестности и в домах погасли последние огоньки. Все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать; иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояре, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.
И теперь еще найдутся в собраниях старинных чарок русские чарки-свистуны. У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели положить своих гостей – верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наша бывали замысловатее нас на угощение.
Такого-то свистуна огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было споить, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза три-четыре, и когда уже петухи возвещали час полуночи.
– Чокнемся, боярин! – вскричал Замятня, протягивая другого свистуна, – чокнемся и обнимемся еще раз!
«Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет двоиться в глазах», – отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться: не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке?
– Э! была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом!
«Давай! Если за нами череда, чего мешкать!»
Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.
– Подавай кругом! – вскричал Замятня.
Кравчий повиновался.
– Эх! ты, боярин! Вот уж люблю тебя за то, что молодец – и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня – гуляка, пустая башка! Врут; дураки: я в тебя, боярин, – вот что ни смотрю, точно братья родные…
«Ты диво малый! – вскричал Белевут, обнимая Замятию, – точный москвич, а не нижегородец!»
– Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невзлюбил! Ведь я был все тот же?
«Нет, не тот же, а теперь – чудо, не человек… прежде ты глядел не так – немножко кривил голову… Ха, ха, ха!»
– А ты ее повернул мне куда следует?
«Сама повернулась!»
– То-то же, сама. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот, посмотри-ка: здесь кого-то недостает…
«Кого? – сказал Белевут, смеясь. – Ведь не тринадцать их осталось – чего бояться, если кто и уплелся!»
– Надо знать кто! Вот, примером, сказать: Некомат где? Вот там сидел он и морщился!
«Так не лежит ли он где-нибудь…»
– Нет! думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он человек, чтобы свалился. О, не люблю я этаких народов…
«Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно любится что-то? Я спас его от погибели: он не то что ты; у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!»
– А он спустил тебя на посулах?
«Не то, не такого олуха царя небесного нашел он, да что-то не ладится у меня с ним никак – чловно козьи рога, в мех не идет».
– Скоро ли у вас свадьба?
«Скоро ли свадьба? Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться – ведь богат, как немногие бояре московские…»
– Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат, но, право, я что-то куда как, сомневаюсь… Вот я – был, грех… стоял – за Симеона (тихонько прибавил Замятня), а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кащей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!
«Я знаю», – сказал Белевут, коварно улыбаясь.
– Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, моей любимой стопе, что вон там стоит на полке?
«Полно шутить, Замятня – теперь уже все старое кончено…»
– Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет – а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить… Что ты думаешь: все уж молодцы у вас в руках?
«Все. Хочешь покажу тебе роспись, кто и где теперь?»
– Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал, да что ни лучшего-то, того-то у вас и нет… Где боярин Симеонов Димитрий?
«Где? У беса в когтях! Только его одного и недостает».
– Этак он ошутил: только его! Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?
«Ну, где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!»
– Его нигде не сыскали?
«Уж все мышьи норки перерыли!»
– А Некомат тянет ваше сватовство?!
«Ну, что же?»
– Князь Роман жену терял,Жену терял, в куски рубил,В куски рубил, в реку бросал,Во ту ли реку, во Смородину… —так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.
«Что ж ты хотел сказать?» – спросил нетерпеливо Белевут.
– Постой, боярин! Пусть они распоются погромче – я нарочно затянул, чтобы нас не слыхали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовой, стучит, воет, кричит в полночь?
«Бабьи сказки!»
– Мужские сплетни, скажи лучше, я… хм! – я видел домового!..
«Ты?»
– Да, я. Ну, как ты думаешь: каков собой этот домовой дедушка? Кто он? Черт, что ли? – Замятня плюнул.
«Говори, говори!» – вскричал Белевут. Глаза его засверкали.
– Постой – дай одуматься – все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть: что там за чудеса такие творятся и правда ли это – и вот и пошел я подкараулить – вот и идет Некомат, идет дочь его – и домовой идет… Месяц светил ярко… Провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где… Симеон!
«Если ты лжешь, Замятня…» – вскричал Белевут и взялся за саблю.
– Вот: лжешь! Послушай: теперь полночь… Ну, хочешь ли, пойдем потихоньку – нас не заметят! Авось мы встретим домового!
Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех сменялись на лице Белевута.
– У тебя сабля, а я с голыми руками! – сказал Замятня. – На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!
«Нет, не верю… не верю… Пойдем!»
* * *Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу, в переулок, и ни одна душа человеческая не встретилась им. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к задам Некоматова двора. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некоматова, идут тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются – идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья – человек с фонарем подходит – это Некомат. Он идет озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается. «Господи! помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил… Он, верно, в заговоре, проклятый пьяница… Если узнали! Горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.
– Что, боярин?
«Ничего, – отвечал Белевут, – улыбаясь принужденно. – Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?»
– Пойдем далее, а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?
Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня в чаще вишневых дерев.
Низкое строение стояло уединенно и было покрыто дерном. Одно только окошечко было в нем вровень с землею. Огонек светил из окошечка.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази его!» – заговорил Белевут, крестясь.
– Вот и струсил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе!
Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку – ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде – свет падает ему в лицо – Замятня, не ошибся: он, Димитрий, боярин Симеона!
Как бешеный, вскочил Белевут. Замятня удерживает его – напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас. Дверь растворяется. Димитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную…
«Она умерла! Она умерла! Господи Боже мой!» – говорит он отчаянным голосом.
– Сюда, помоги! – кричал Замятня, зажимая рот, Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий оставляет Ксению на земле, Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.
– Пусть кричит себе там, сколько хочет! – сказал Замятня, оправляя платье. – Димитрий! Брат! Друг!
Они крепко обнялись.
– Доволен ли ты мною? – спросил Замятня.
«Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе…»
– Что: дурак я аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей недостает отмолить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на свою душу – и как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!









