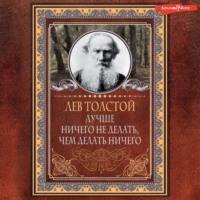полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
– Нет, не хочу. Ну, в чем дело?
– Пей же всю. А? – продолжал Анатоль, разевая больше глаза и поднося своей мохнатой, белой, голой до локтя рукой недопитой стакан.[1092] Он имел вид человека, делающего важное дело, и вид происходил в особенности от того, что он всю энергию свою в эту минуту употреблял на то, чтобы держать стакан прямо и сказать именно то, что он хотел сказать.
– Говорю, не хочу, – отвечал Pierre, надевая очки и отходя прочь. – Об чем вы кричите?
Анатоль постоял, подумал и, сообразив, что Pierre так и не выпьет стакану бросил его на пол.
– Эй! подбери![1093]
34.
Вот в чем было дело. Они из театра приехали к Анатолю. Играли в фараон. Анатоль проиграл немного и бросил. Он не имел страсти к игре, а играл по привычке. Один конногвардеец проиграл много, а Долохов выиграл у всех. После игры стали ужинать.[1094] Англичанин, который был в этом обществе, хвастал, что он перепьет всех.[1095] Англичанин предложил пари, что сразу выпьет бутылку рома.[1096] Долохов, который больше всех выиграл, сказал, что это выпьет всякой и что он предлагает выпить бутылку рому, не отпуская от рта и сидя на окне пятого этажа и спустив ноги наружу. Англичанин предложил пари. Анатоль держал за Долохова, т. е. что он выпьет, другие – против, т. е. что не выпьет; и в ту минуту, когда вошел Pierre, лакеи выставляли раму в окне, которое, хотя было только в третьем этаже, было достаточно высоко от тротуара, чтобы упавший с него убился до смерти. С разных сторон пьяные, но дружелюбные лица рассказывали Пьеру в чем дело, как будто видя в том, что Пьер будет знать дело – какую то важность.
Когда Пьер с трудом понял, он[1097] улыбнулся своей доброй и гнилозубой улыбкой,[1098] ничего не сказал и только посмотрел на Долохова. Граф Долохов, тот, который выиграл в нынешний вечер и готовился делать опыт, был[1099] гвардейского пехотного полка офицер, среднего роста, мускулистый, весь сбитый, с широкой и полной грудью, чрезвычайно курчавый, с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, составлявший поразительную черту его лица, был весь виден. Рот этот был чрезвычайно приятен, несмотря на то, что почти никогда не улыбался,[1100] линии его, это[го] рта, были чрезвычайно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на толстую нижнюю острым клином; в углах образовывались постоянно что-то вроде двух презрительных улыбок, по одной с каждой стороны, а все вместе, и особенно в соединении с прямым, несколько наглым, но огненным и умным взглядом, составляло впечатление такое, что никто не проходил мимо этого лица, чтоб не заметить его и не[1101] сказать себе:– вот так рожа! Красивое и странное лицо. Женщинам, без исключений, Долохов нравился так, что он искренно смеялся, когда ему говорили о безупречной женщине. Он еще не встречал таких, которые бы для него не готовы были[1102] забыть всё. Долохов был молодой человек хорошей фамилии, но не богатый, однако он жил роскошно и постоянно играл. Он почти всегда выигрывал, но никто, и в отсутствии его, не смел бы приписать его постоянный успех чему нибудь другому, кроме [как] счастью и, главное, постоянно среди попоек, светлой голове и[1103] непоколебимой силе воли. Ежели он говорил раз, что сделает что нибудь, то все знали, что он исполнит свое слово. Теперь, когда он затеял свою опасную штуку, пьяное общество приняло особенное, живое участие в его намереньи именно потому, что знало, что сказанное им будет сделано. «Так я и знал – лихо!» сказала молчаливая улыбка Пьера. Остальное общество состояло из трех офицеров, англичанина моряка, известного своей способностью много выпить, одного москвича, старого кутилы и игрока, и одного известного в то время музыканта и повесы. Бутылка рому была принесена, раму выставлял лакей,[1104] привыкший ко всему, не робея и грубо отмахиваясь от советов господ.
Из всех этих людей, за исключением старого кутилы москвича и англичанина, человека[1105] иссушенного и уже не первой молодости, из всех этих людей, казалось, выпирал избыток молодости[1106] и энергии. Несмотря на пьяное их состояние, все они были разнообразны, но все в своем роде хороши собой и преисполнены силы, которую не знали куда девать, и какой нибудь государственный человек, полководец или молодая одинокая женщина, ежели бы подсмотрели их в эти минуты, одинаково бы пожалели, что не нашли этим силам более сообразного с выгодами каждого употребления.
35.
Бросив стакан, Анатоль, не переменяя выражения, с выпученной грудью, не обходя и не прося сторониться, продавил своим тучным телом толпу у окна, подошел к раме и, так же бесстрастно как он все делал, обернув обе белые руки сертуком, валявшимся на диване, ударил в стеклы и пробил в двух местах обе рамы.
– Ну, вот, ваше сиятельство, – сердито сказал лакей, – только мешаете и ручки порежете.
– Пошел, дурак! А? – Анатоль видел, что то, что он сделал, было напрасно, и рассердился. Кто то догадался взяться за перекладины рам и тянуть наружу. Несколько рук взялись, потянули и выломали рамы так, что можно было сесть.
– Сломай верхнюю перекладину, а то скажет, что я держусь, – сказал Долохов.
Анатоль отвел Пьера в сторону.
– Понимаешь… Англичанин хвастался… А? вот национальность… А? Хорошо?
– Хорошо, – сказал Пьер, с замиранием сердца подходя к окну, из которого вдруг понесло холодом и на которое с бутылкой рому в руке влезал Долохов. Кое кто надел сертуки. Анатолю все еще было жарко. Долохов вскочил на подоконник и стоял выше всех.
– Слушать! – крикнул он. Все замолчали.
– Я держу пари с мистером Чеплицом – (он говорил по французски, чтоб его понял англичанин, и не слишком хорошо) – на 50[1107] имперьялов – так?
– Оо! – сказал англичанин.
– что я выпью бутылку рому всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте. – (Он нагнулся и показал покатый выступ каменной стены за окном) – и не держась ни за что. Так?
– Оо! – сказал англичанин.
[Далее со слов: Анатоль повернулся к англичанину, кончая: Лицо его было бледно и весело. – близко к печатному тексту. Т. I, ч. I, гл. VI.]
– Пуста. – Он кинул бутылку англичанину и спрыгнул с окна.
Долохов[1108] велел себе облить голову водой.[1109]
– А? Каково? А? – спрашивал у всех Анатоль, как будто он это сделал.
– Чорт вас возьми совсем, – говорил старый кутила.
Англичанин расспрашивал Долохова о впечатленьи, испытанном им. Один офицер обещался сделать то же в первый раз, как он будет не пьян.
Пьер поцеловал Долохова и в совершенно растерянном виде ходил по комнате, улыбаясь.
– Господа! Кто хочет со мной пари. Я то же сделаю, – вдруг заговорил он. – И пари не нужно. Вели дать бутылку.[1110]
Все расхохотались.
– Что ты, с ума сошел? У тебя на лестнице голова кружится.
– Это подло, что мы оставили одного Долохова рисковать жизнью. Нет, я пойду. – Его с хохотом схватили за руки.
– Ты пьян.
– Господа, вы знаете новость? – сказал Pierre. – Война!
– Ну, чорт с ней.[1111] Кто то хотел ехать домой. Кто то предложил ехать не домой, а всем вместе куда то еще. Все согласились, надели шубы и поехали. Pierre поехал с ними. Англичанин уехал домой, а Долохов, пьяный, бесчувственным сном заснул на диване у Анатоля.
36.
[1112]Я пишу до сих пор только о князьях, графах, министрах, сенаторах и их детях и боюсь, что и вперед не будет других лиц в моей истории.
Может быть это не хорошо и не нравится публике; может быть, для нее интереснее и поучительнее история мужиков, купцов, семинаристов, но со всем моим желанием иметь как можно больше читателей, я не могу угодить такому[1113] вкусу, по многим причинам. Во первых потому, что памятники истории того времени, о котором я пишу, остались только в переписках и записках людей высшего круга – грамотных; интересные и умные рассказы даже, которые мне удалось слышать, слышал я только от людей того же круга. Во вторых потому, что жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразною, скучною, и все действия этих людей, как мне представляется, вытекающими, большей частью, из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и матерьяльных страстей. Ежели и не все действия этих людей вытекают из этих пружин, то действия их так застилаются этими побуждениями, что трудно их понимать и потому описывать.
В третьих потому, что жизнь этих людей (низших сословий) менее носит на себе отпечатка времени.
В четвертых потому, что жизнь этих людей некрасива.
В пятых потому, что я никак не могу понять, что думает будочник, стоя у будки, что думает и чувствует лавочник, зазывая купить помочи, галстуки, что думает семинарист, когда его ведут в сотый раз сечь розгами, и т. п. Я так же не могу понять этого, как и не могу понять того, что думает корова, когда ее доят, и что думает лошадь, когда везет бочку.
В шестых потому, наконец,[1114] (и это, я знаю, самая лучшая причина), что я сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его.
Я не мещанин, как смело говорил[1115] Пушкин, и смело говорю, что я аристократ,[1116] и по рожденью, и по привычкам, и по положенью. Я аристократ потому, что вспоминать предков – отцов, дедов, прадедов моих, мне не только не совестно, но особенно радостно. Я аристократ потому, что воспитан с детства в[1117] любви и уважении к[1118] высшим сословиям и в любви к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаеле, но[1119] и во всех мелочах жизни. Я аристократ потому, что был так счастлив, что ни я, ни отец, ни дед мой не знали нужды и[1120] борьбы между совестью и нуждою, не имели необходимости никому никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали потребности образовываться для денег и для положения в свете и т. п. испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это большое счастье и благодарю за него бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отрекаться от него и не пользоваться им.
Я аристократ потому, что не могу верить в высокой ум, тонкой вкус и великую честность человека, который ковыряет в носу пальцем и у которого душа с богом беседует.
Все это очень глупо, может быть, преступно, дерзко, но это так. И я вперед объявляю читателю, какой я человек и чего он может ждать от меня. Еще время закрыть книгу и обличить меня, как идиота, ретрограда и Аскоченского, которому я, пользуюсь этим случаем, спешу заявить давно чувствуемое мною искренное и глубокое нешуточное уважение.
*№ 3 (рук. № 49. T. I, ч. I, гл. XVII, XIX—XXI).
Раздвинули бостонные столы, разобрались партиями и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и[1121] библиотеке. Марья Дмитриевна ругала Шиншина, который играл с нею.
– Вот ругать всех умеешь, а догадаться не мог, что тебе с дамы сюровой итти надо. Граф, распустив карты, с трудом удерживался от привычного послеобеденного сна. Кое кто сидел еще в кабинете. Молодежь, надзираемая графиней, собралась около клавикорд и арфы.[1122] Старшая дочь Марьи Дмитриевны съиграла на арфе; старшие девицы попросили Наташу и Nicolas спеть что нибудь. Наташа, к которой обратились прежде других, не соглашаясь и не отказываясь, отошла к сторонке и, пробуя свой голос, взяла несколько нот из арии Joconde, которую она любила.
– Можно, можно, у меня нынче голос прекрасный, – сказала она, весело встряхивая кудрями, которые валились ей на глаза. Pierre, отяжелевший от обеда, плюхнувшись на первый попавшийся ему стул, не спускал глаз с некрасивой, но милой девушки ребенка, прелесть которого, ему казалось, он один открыл.
– Что за голос славный, – сказал он Борису, который ему почти так же нравился в этот вечер, как и Наташа. Пьер находился, после скуки уединения в большом доме отца, в том счастливом послеобеденном состоянии сильного молодого человека, когда всех любишь и видишь во всех людях одно хорошее. Кроме того он, с свойственной ему способностью увлекаться, в этот вечер был сразу влюблен в двух: в Наташу, которая ему тем более нравилась, что он был убежден, что он один открыл ее прелесть, и в Бориса, который еще утром пленил его своей решительностью и честностью и который, чем больше он смотрел на его милое, всегда спокойное лицо и слушал его умные речи, всё более и более нравился ему. Еще за обедом он с петербургской высоты презирал, на сколько способно было его доброе простое сердце, всю эту московскую публику. Теперь же ему уже казалось, что здесь только в Москве и умеют жить люди, здесь только и найдешь настоящую поэзию жизни, думал он.
Борис, как и все очень молодые люди, дорожил внезапной дружбой Пьера, который был старше его, и старался выказывать перед другими, и особенно перед Наташей, близость своих отношений с Пьером.
– Nicolas! – сказала Наташа, подходя к роялю, – что бы спеть?
– Хоть «Ключ,» – отвечал Nicolas скучливо, который, видимо, был грустен.
– Ну, давайте, давайте. Борис, идите сюда. А где же Соня? – она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.
«Ключ», как называли его у Ростовых, был старинный кватюр, которому научил их Димлер, они пели его вчетвером, Наташа, Соня, Nicolas и Борис, который хотя и не имел собственно таланту и голоса, но имел верный слух и, с свойственной ему во всем точностью и спокойствием, мог выучить партию и твердо держал ее.
Пока Наташа ушла, стали просить Nicolas, чтоб он спел что нибудь один. Он отказывался[1123] почти неучтиво и мрачно. Старшая дочь Марьи Дмитриевны Ахросимовой, хорошенькая[1124] брюнетка, сидевшая с ним рядом за обедом и видимо кокетничавшая с ним, подошла к нему:
– Pourquoi faites vous le beau ténébreux?[1125] – сказала она. Nicolas морщился, его, видимо, тревожило отсутствие Сони.
– Nicolas, ne vous faites pas prier, c'est ridicule,[1126] – сказала графиня.
Nicolas порывистым движением, как он и всё делал, вскочил, подошел к клавикордам, стукнул крышкой, открывая их.
– Что у него хороший голос? – спросил Pierre у Бориса.
– Не особенно, но у них в семействе музыкальное дарование; он с уха всё, что услышит, играет и поет. Втору, бас, что хотите.
Nicolas задумался на минутку и начал[1127] песенку Кавелина.
«На что с» (в записках студента 260 стр., 1-й куплет).
Голос у него был ни хорош, ни дурен и пел он лениво, как бы исполняя скучную обязанность; но несмотря на то в комнате всё замолкло, барышни покачивали головами и вздыхали и Пьер, открыв свои порченые зубы нежной и слабой улыбкой, которая особенно смешна казалась на его толстом лице, так и остался до конца песни.
Всяк пляшет, да не так, как скоморох, говорит пословица. Всяк поет, да не так, как поет тот, у кого талант. После до можно взять фа, но для того, чтобы настроить до и настроить фа на скрипке, надо поворотить колышек чуть чуть, еще чуть чуть, еще чуточку, чтобы это было совершенно фа и до, которые суть математические точки в пространстве звуков; но, и не поворачивая колышка, будет фа и до, только не совсем верные. Для голоса не нужно ворочать колушка, можно сразу попасть на настоящий, совсем верный фа и до, тогда как не совсем верных фа и до, таких, при которых вертят колышки, есть тысячи, милионы, бесконечность. Фа надо тянуть одну четверть секунды, но можно тянуть и одну четверть секунды без одной сотой или с одной сотой и никто не скажет, что темп не верен. Талант тем отличается от неталанта, что он сразу берет одно единственно верно из[1128] бесчисленности несовсем верных фа и тянет его ровно одну четверть секунды, ни на одну тысячную не больше и не меньше, и усиливает или уменьшает звук ровно, в каждую одну сотую секунды, по одной десятитысячной силы звука. Достигнуть этой точности человеку невозможно. Ее достигает только бог и талант. И тем то отличается талант от неталанта. И затем выдумано такое, кажущееся странным и неточным, название таланта. Nicolas пел с талантом, но пел лениво, и, несмотря на то, его слушали покорно, не судя его, а только радуясь на его звуки.
[Далее со слов: Между тем Наташа, вбежав в Сонину комнату кончая: Пойдем. – близко к печатному тексту. T. I, ч. I, гл. XVII.]
Они засмеялись, оправились, отряхнули пух. Соня спрятала в пазуху стихи, и легкими веселыми шагами с раскрасневшими лицами пришли в гостиную, где Nicolas допевал еще последний куплет песни. Он увидал Соню, глаза его оживились, на открытом для звуков рте готова была улыбка, голос стал сильнее и выразительнее. Он пел последний куплет (Дневник студента 260 и 261). Песенка эта, еще мало известная в Москве, понравилась необыкновенно. Марья Дмитриевна встала из за бостона и остановилась в дверях, чтоб слушать.
– Ай да Никола, – сказала она, – славно! поди сюда, поцелуй меня.
[Далее со слов: После песенки спели квартет «Ключ» кончая: Ай да Данила Купор, – сказала Марья Дмитриевна. – близко к печатному тексту. T. I, ч. I, гл. XVII.]
Перед ужином лакей пришел доложить Пьеру, который всё более и более пленялся московской жизнью, что князь Василий прислал за ним, что велено сказать – графу хуже.
– Partons, partons, mon cher,[1129] – говорила Анна Михайловна, быстро и энергически собираясь, – faites avancer.[1130] – Pierre в рассеянности прощался с Марьей Дмитриевной, принимая ее за графиню, и просил позволения бывать и, наконец, найдя настоящую хозяйку, полный веселых и молодых впечатлений, со вздохом сел с Анной Михайловной в карету и приехал домой.
Швейцар протянул руку к звонку.
– Зачем? не надо, голубчик, – сказала княгиня Анна Михайловна.
– Князь Василий Сергеевич приказали доложить, когда вы изволите приехать, – сказал швейцар.
– Ах нет, не надо, не надо. – Княгиня остановила руку швейцара.
– Au revoir, mon cher, – сказала она, – je lui parlerai de vous, c’est mon devoir,[1131] – сказала она печально Пьеру, когда они расходились на лестнице. Pierre промычал что то, не понимая и желая не понимать, зачем говорить о нем, какая это обязанность и всё, что делалось в этом большом роскошном доме. Молодое чутье его говорило ему, что все действующие здесь люди неестественны и чем то таинственно заняты. Ему приятно было, что его не звали и позволяли ни в чем не участвовать. Он прошел к себе, ему еще не хотелось спать, и открыв в середине только что вышедшую тогда Corinne Mme de Staël, начал читать лежа. Княгиня на ципочках пошла в комнату больного.
Pierre лежал на диване в любимом своем положении, задрав ноги на стол, читал, прислушивался ко всем звукам дома и думал. То он живо воображал себе полногрудую и чернокудрую Коринну, везомую в триумфе в Колизей, и отрывался от книги, чтоб подумать о ней, то он думал о неправильном милом лице Наташи, которую он один умел оценить, то думал о том, что делалось теперь в большой комнате отца, и всё читал. В те промежутки чтения, когда он думал об отце, он чувствовал, что ждет чего то с страхом, с тоской, но ждет и с нетерпением, с досадой нетерпения. «Чего ж это я жду так давно, со времени приезда в Москву и так сильно?» вдруг спросил он себя. «Неужели я жду смерти отца? Это было бы слишком дурно. Но чего еще и ждать мне?» Он не ответил себе и опять принялся читать. Римляне бежали за Коринной, она выражала на своем лице скромность, робость и сознание своего достоинства. Pierre подумал об этом выражении, сам попытался воспроизвесть это выражение на своем лице. «Ах да, о чем бишь это я думал и не додумал?», спросил он себя. «Я чего то ждал. Да. Поскорее, как можно бы поскорее это всё кончилось». «Что кончилось?», спрашивал другой голос. «Да, я желаю, чтобы как можно скорее умер мой отец и кончилось бы всё это неестественное положение. Я желаю как можно скорее смерти своего отца», повторил он нарочно вслух, как бы наказывая себя и сам себе ужасаясь. И опять он читал, и Коринна начинала импровизировать, и Наташа начинала петь; но неотвязный вопрос опять приходил в голову: «Неужели ты, который считаешь себя добрым и новым, образованным человеком, ты желаешь смерти отца? – Да, желаю и не могу не желать, – отвечал он себе с ужасом. – Я буду богат, я буду свободен. – Но это было слишком страшно, он встал, перевалился на другой бок и опять стал читать и опять встал и стал ходить по комнате, стараясь отогнать свои мысли. Он прислушался, ему показалось, что он слышит стон. Невозможно было слышать того, что делалось в комнате больного, но ему подумалось, что это стон умирающего отца, и звук этот ему был страшен и радостен. Звук этот был не стон, но женские приближавшиеся шаги. Значенье их было для него то же, что и стон. Большая, высокая дверь беззвучно отворилась и вошла Анна Михайловна с платком в руке и слезами на глазах.
– Что вы? Что? – испуганно спросил Pierre, почти подбегая ей навстречу.
– Venez,[1132] – сказала Анна Михайловна, закрывая лицо платком и садясь на стул у двери. – Ah, Pierre, la bonté divine est inépuisable, – сказала княгиня Анна Михайловна. – С'est un saint, votre père. Venez. Ayez du courage. Soyez homme.[1133]
Pierre не отвечал, не понимал ничего, но, чувствуя себя преступным, готов был итти за ней. Анна Михайловна встала и они пошли вниз, наверх и через анфилады комнат. Много людей всякого сорта было в гостиной и в маленькой комнате, предшествовавшей спальной. Pierre узнал докторов, одного молодого петербуржского, и заметил священника с длинной бородой, сидевшего в углу на плетеном стуле и державшего что то завернутое в епитрахили. Все люди эти смотрели на проходившего Pierr'a больше чем с любопытством и участием,[1134] они смотрели на него, как казалось Pierr'y, с страхом и ужасом. Ему казалось, что все они знали его тайну, но, несмотря на то, он был здесь первое лицо, обязанное совершить какой то обряд, которого все ждали. Ему оказывали уважение, которого никогда прежде не оказывали. Одна дама вскочила, чтоб отворить перед ним дверь в спальную,[1135] другая подняла платок и подала ему. Он хотел предупредить даму и самому отворить дверь, но ему чувствовалось, что это было бы неприлично, что он должен был давать им услуживать себе. Князь Василий встретил его в двери. Лицо его было серьезно, как будто он делал большие усилия над собой. Князь Василий пожал в первый раз в жизни руку Пьеру и проговорил: courage, mon ami.[1136] Pierre чувствовал, что отвечать не надо и надо предоставиться вполне на волю тех, которые руководили его. В комнате было почти темно. Одна свеча горела по сю сторону ширм и за ширмами, где стояла большая кровать, на которой лежал больной, светилось еще что [то] с абажуром. Пахло нехорошо и странно. Было очень жарко. Чем ближе он подходил, тем сильнее становился запах. За ширмами слышались звуки каких то тяжелых старческих усилий, звук, источник которого не понял Pierre.
Анна Михайловна неслышными шагами обогнала Pierr'a, пошепталась с князем Василием, зашла за ширмы. И из за ширм, из-за вдруг прервавшихся звуков усилий, послышался хриплый, умоляющий, разбитый голос – de grace[1137] – сказал голос. Но это не мог быть граф, говоривший всегда резко и строго. Pierre в эту же минуту вступил за ширмы. На высокой постели, на горе подушек, он увидал что то белое, огромное и страшное,[1138] и в середине подушек, прижатую к пуховому изголовью, увидал седую голову отца, всегда такую гордую и насмешливую, теперь жалкую и беспомощную. Это был он – отец.[1139] Сколько нужно было сказать друг другу этому умирающему отцу и испуганному сыну! Давно уже между ними накопилось многое невысказанное и всё откладывалось и откладывалось. Отец никого в жизни так не любил, как мать этого Pierr’a, с которой он был в связи до ее смерти. Он любил и сына, но держал себя далеко от него, полагая лучшим не стеснять его молодой свободы и не считая сына способным понять его чувства. Кроме того, он боялся упреков сына за незаконность его происхождения. Сын понимал эти scrupules,[1140] хотел сколько раз высказать свою любовь отцу, просить его помощи и совета, но боялся, и еще многое, многое накопилось недосказанное между двумя людьми. Теперь пришла минута всё высказать. Князь Василий и княгиня Анна Михайловна отошли за ширмы и что то пошептали. Умирающий с трудом поднял глаза и в глазах, всегда гордых, умных и презрительных, была одна робость, мольба о чем то и стыд перед чем то. Молодому человеку вспомнилось то, что он думал за пять минут в своей комнате, он поглядел на этот взгляд, слезы подступили ему к горлу и он нагнул голову к опухлой, огромной руке отца. Очки его упали на подушку. Он торопливо их снял и сунул в карман. Теперь они всё бы сказали друг другу; но отец только поднял с трудом руку, положил ее на волосы сына, в лице выразилась улыбка мольбы и стыда перед собой и он хрипло сказал:
– Pierre, pourquoi ne pas être venu chez votre père? Il y a si longtemps que je souffre.[1141] Никто его не звал, на вопросы об отце ему всегда отвечали уклончиво. Отец никогда не выражал нежности и не позволял ее выражения сыну. Всё это подумал сын, но ничего не сказал. Pierre положил голову к его лицу и рыдал.