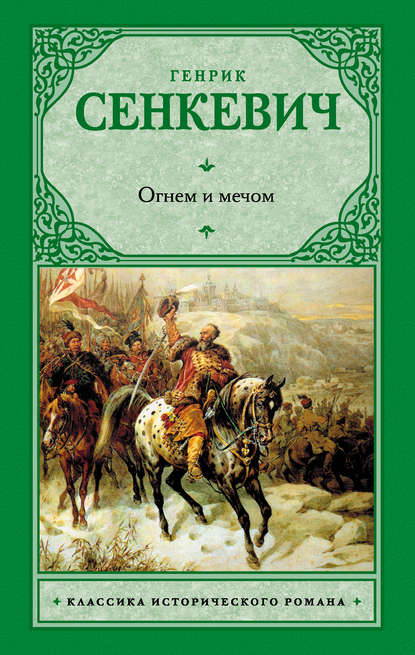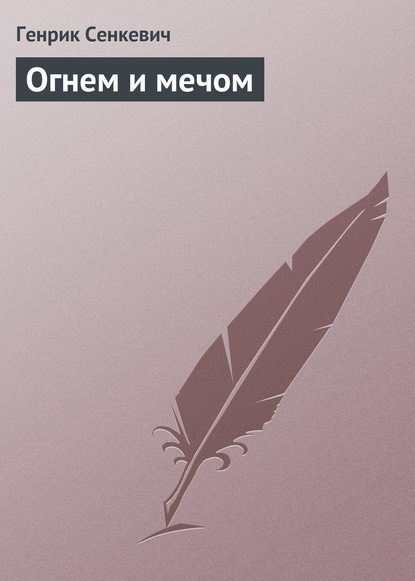полная версия
полная версияОгнем и мечом
– Я берусь пробраться через казацкий лагерь.
Рыцари, услышав эти слова, вскочили в изумлении со своих мест, пан Заглоба раскрыл рот, Володыевский зашевелил усиками, Скшетуский побледнел, а староста красноставский всплеснул руками и воскликнул:
– Вы беретесь это сделать?
– Подумали ли о том, что говорите? – заметил Скшетуский.
– Я давно все обдумал, – ответил литвин, – ибо не с сегодняшнего дня среди рыцарей поговаривают о том, что надо дать знать королю о нашем положении. А я, слыша это, думал: пусть бы только Всевышний позволил мне выполнить мой обет и я бы сейчас же пошел. Я – ничтожный человек, что я значу? Что за беда, если меня и убьют!
– И убьют, как бог свят! – воскликнул Заглоба. – Вы ведь слышали, что говорил пан староста: это неизбежная смерть!
– Ну так что же, братец? – ответил пан Лонгин. – Коли Бог захочет, он проведет, а нет, так наградит на небе.
– Но сначала тебя схватят, замучат и предадут ужасной смерти. Да у тебя в голове помутилось, что ли? – говорил Заглоба.
– А я-таки пойду, братец, – кротко ответил литвин.
– Тут птица не пролетит – ее из луков подстрелят. Нас окружили со всех сторон, как медведя в берлоге.
– Я пойду! – повторил рыцарь. – Я должен Господа поблагодарить за то, что он мне позволил выполнить обет.
– Ну смотрите на него, смотрите! – воскликнул, хватаясь за голову, Заглоба. – Так лучше вели отрубить себе голову и зарядить собой пушку, только так ты и можешь пробраться через их лагерь.
– Нет уж, позвольте, друзья, – промолвил литвин, складывая руки.
– О нет, ты не пойдешь один, так как и я пойду с тобою, – сказал Скшетуский.
– И я с вами, – прибавил Володыевский, ударяя рукой по сабле.
– А чтоб вам провалиться с вашим «и я», «и я»! – крикнул Заглоба, хватаясь за голову. – Видно, вам мало еще крови, мало огня и дыма! Им мало того, что здесь происходит, они ищут, где бы повернее свернуть себе шеи! Идите к черту и оставьте меня в покое! Чтоб вас разорвало!..
Сказав это, он стал метаться по палатке, точно ошалелый.
– Бог меня карает, – кричал он, – за то, что я путаюсь с этими ветрогонами, вместо того чтобы жить в компании степенных людей. Поделом мне!
Еще несколько времени он ходил лихорадочными шагами, наконец остановился перед Скшетуским, заложил руки назад и, глядя ему прямо в глаза, стал грозно сопеть.
– Что я вам сделал, что вы меня преследуете? – спросил он с упреком.
– Сохрани нас Бог! – ответил рыцарь. – Как так?
– Ибо если пан Подбипента выдумывает такие вещи, то я не удивляюсь. Все его остроумие всегда было в кулаке, а с тех пор, как он зарубил трех величайших дураков среди турок, сам стал четвертым…
– Слушать гадко, – перебил его литвин.
– И ему я не удивляюсь, – продолжал Заглоба, указывая на Володыевского. – Он вскочит казаку за голенище или прицепится к шароварам, как репей к собачьему хвосту, и скорее нас всех переберется через казацкий лагерь. Их обоих Дух Святой не просветил, но что вы, ваць-пане, вместо того, чтобы удерживать их от безумства, еще науськиваете их тем, что сами идете и хотите всех нас четверых предать неминуемой смерти и мукам, это уж… последнее дело! Черт возьми! Я не ожидал этого от офицера, которого сам князь считал степенным кавалером.
– Как – четверых? – с удивлением спросил Скшетуский. – Значит, и вы?
– Да! – кричал, ударяя себя кулаком в грудь, Заглоба. – Пойду и я! Если кто-нибудь из вас или вы все пойдете, пойду и я. Пусть моя кровь падет на ваши головы! Это будет для меня впредь наукой, с кем водить компанию!
– А, чтоб вас! – воскликнул Скшетуский.
И три рыцаря бросились обнимать его, но он и на самом деле сердился, сопел, отталкивал их локтями и говорил:
– Идите вы к черту! Не надо мне ваших иудиных поцелуев!
Вдруг на валах раздались пушечные и мушкетные выстрелы. Заглоба прислушался и сказал:
– Вот вам! Идите!
– Это обыкновенная стрельба, – заметил Скшетуский.
– Обыкновенная стрельба! – сказал, передразнивая его, шляхтич. – Вот, не угодно ли! Им мало этого. Половина войска растаяла от этой обыкновенной стрельбы, а они уж и ей довольны.
– Не падайте духом! – проговорил Подбипента.
– Молчите вы, литовская жердь! – загремел Заглоба. – Вы более всех виновны. Это вы выдумали эту затею, а если она не глупа, то я глуп!
– А все же я пойду, братец, – сказал пан Лонгин.
– Пойдете, пойдете! И я знаю, почему! Вы из себя героя не разыгрывайте, вас знают. Вам надо поскорее сбыть с рук свою невинность, и потому вы торопитесь убраться из окопов. Вы худший между рыцарями, а не наилучший; вы просто блудница, которая торгует добродетелью. Грех, да и только! Вас не к королю тянет, а хочется ржать по деревням, как жеребцу на лугу. Вот смотрите: рыцарь, который невинностью торгует! Грех, грех! Ей-богу, грех!
– Слушать гадко! – воскликнул пан Лонгин, затыкая уши.
– Перестаньте ссориться! – серьезно заметил Скшетуский. – Лучше подумаем о деле!
– Постойте, – сказал староста красноставский, который с изумлением слушал Заглобу, – это очень важное дело, и без князя мы ничего не можем решить. Тут нечего спорить. Вы у него на службе и должны повиноваться его приказаниям. Князь, верно, теперь у себя. Пойдем к нему и узнаем, что он скажет на это.
– То же, что и я! – сказал Заглоба, и надежда прояснила его лицо. – Пойдем скорее!
Они вышли и пошли через площадь, на которую уже падали пули из казацких окопов. Войска были у валов, которые издали казались ярмарочными будками, так они были увешаны старой пестрой одеждой, тулупами, заставлены возами, остатками шатров и всякого рода вещами, могущими хотя сколько-нибудь защитить от выстрелов, которые не прекращались по целым неделям, ни днем ни ночью. И теперь над этим развешанным тряпьем тянулась длинная полоса голубоватого дыма, а перед ним виднелись ряды лежащих солдат, одетых в красные и желтые мундиры и неутомимо стрелявших в ближайшие позиции неприятеля. Вся площадь была похожа на пепелище: истоптанная лошадьми, она даже нигде не зеленела травой. Кое-где торчали кучи свежевырытой земли, выброшенной при выкапывании колодцев и могил, кое-где лежали остатки разбитых возов, пушек, бочек или груды обглоданных и побелевших на солнце костей. Нигде ни было видно ни одного конского трупа, каждую убитую лошадь сейчас же забирали для пропитания солдат, зато всюду виднелись железные, большей частью заржавевшие, пушечные ядра, которыми неприятель ежедневно осыпал этот кусочек земли. Следы тяжелой войны и голода виднелись на каждом шагу. Нашим рыцарям попадались группы солдат, то несущих из окопов раненых и убитых, то спешащих к валам на помощь слишком утомленным товарищам. Лица у всех почернели, исхудали, обросли, глаза горели, одежда выцвела, изорвалась, у иных на головах вместо шапок и шлемов были какие-то повязки из грязных тряпок. И невольно возникал вопрос: что будет с этой горстью рыцарей, бывших до сих пор победителями, если еще пройдет неделя, другая?..
– Смотрите, панове, – сказал староста, – пора, пора дать знать королю.
– Нужда уже скалит зубы, как пес! – заметил маленький рыцарь.
– А что будет, когда мы съедим лошадей? – спросил Скшетуский.
Разговаривая так, они дошли до княжеских шатров, находившихся по правой стороне вала; перед ними виднелось несколько всадников, на обязанности которых лежало развозить приказы по лагерю. Их лошади, которых кормили вяленой кониной, то и дело подымались на дыбы, не желая стоять на месте. Так было с лошадьми во всех конных полках, которые теперь, когда бросались на неприятеля, казались стаей грифов или кентавров, несущихся по воздуху, а не по земле.
– Князь в шатре? – спросил староста одного из всадников.
– В шатре с генералом Пшиемским, – ответил всадник.
Староста вошел без доклада, а четыре рыцаря остановились перед шатром. Через минуту полотнище отогнулось, и показалась голова генерала Пшиемского.
– Князь хочет видеть вас сейчас же, Панове! – сказал он.
Пан Заглоба вошел в шатер с твердой надеждой, что князь не захочет подвергать почти неминуемой гибели лучших своих рыцарей, но ошибся, так как князь не успел еще ответить на поклон, как сказал:
– Мне говорил пан староста о вашей готовности выйти из нашего лагеря, и я принимаю ваше предложение. Нет жертвы, которая была бы слишком велика для отчизны.
– Мы пришли спросить вашего разрешения, – ответил Скшетуский, – ибо наша жизнь в распоряжении вашей светлости.
– Значит, вы хотите идти вчетвером?
– Ваша светлость! – сказал Заглоба. – Это они хотят идти, а не я. Бог свидетель, я не пришел сюда ни хвастать, ни напоминать о своих заслугах, и если упомяну о них, то лишь для того, чтобы меня теперь не заподозрили в трусости. Пан Скшетуский, Володыевский и Подбипента из Мышиных Кишек – великие рыцари, но и Бурлай, который пал от моей руки (об иных подвигах я умолчу), тоже был великий воин, стоил Бурдабута, Богуна и трех янычарских голов, – а потому я полагаю, что в рыцарском деле я не хуже других. Но иное дело мужество, иное дело безумие. У нас нет крыльев, а по земле мы не пройдем – это уж верно.
– Значит, вы не идете? – спросил князь.
– Я сказал, что не хочу идти, но не сказал, что не иду. Коли Бог уж покарал меня их компанией, мне до самой смерти придется в ней пребывать. Если нам придется здесь туго, сабля Заглобы еще пригодится, но я не знаю, на что пригодится смерть нас четверых, и надеюсь, что ваша светлость не даст разрешения на столь безумное предприятие.
– Вы хороший товарищ, – ответил князь, – и с вашей стороны благородно, что вы не хотите оставить своих друзей, но в своей уверенности во мне вы ошиблись, так как я принимаю вашу жертву.
– А, черт! – пробормотал Заглоба, и руки у него опустились. В эту минуту в шатер вошел Фирлей, каштелян бельский.
– Ваша светлость, – сказал он, – мои люди поймали казака, который говорит, что сегодня ночью будет штурм.
– Мне уже сообщили об этом, – ответил князь. – Все готово; пусть только поторопятся с постройкой валов.
– Они почти кончены.
– Это хорошо! – сказал князь. – К вечеру мы переберемся! Потом он обратился к четырем рыцарям:
– После штурма, если ночь будет темная, выйти лучше всего.
– Как так? – спросил Фирлей. – Разве вы, ваша светлость, предполагаете сделать вылазку?
– Вылазка будет своим чередом, – ответил князь, – и я сам поведу ее, но мы теперь говорим о другом. Эти господа решились пробраться через неприятельский стан и дать знать королю о нашем положении.
Каштелян от изумления широко раскрыл глаза и по очереди посмотрел на рыцарей.
На лице князя появилась довольная улыбка. У него была эта слабость, и он любил, чтобы удивлялись его воинам.
– О господи! – сказал каштелян. – Значит, есть еще на свете такие сердца! Клянусь Богом, не стану я вас, Панове, отговаривать от этого смелого предприятия.
Пан Заглоба покраснел от злости, но ничего не ответил и лишь сопел, как медведь; князь задумался на минуту и потом промолвил:
– Но я не хочу даром проливать вашу кровь и не согласен пустить вас всех четверых. Сначала пойдет один; если его убьют, то неприятель не замедлит похвастать этим перед нами, как он хвастал смертью того моего слуги, которого схватили под Львовом. Итак, если убьют первого, пойдет второй, затем, в случае надобности, третий и четвертый. Но, быть может, первый пройдет счастливо, и потому я не хочу подвергать опасности остальных трех.
– Ваша светлость… – прервал Скшетуский.
– Такова моя воля и приказ, – с ударением сказал князь. – Но, чтобы примирить вас, я объявляю, что первым пойдет тот, кто первый предложил.
– Это я! – проговорил Лонгин с сияющим лицом.
– Сегодня вечером, после штурма, если ночь будет темная, – добавил князь. – Никаких писем к королю я не дам; что вы видите, то и расскажете, а в знак полномочий возьмите этот перстень.
Подбипента взял перстень и поклонился князю, а он обнял рыцаря и, несколько раз поцеловав в голову, сказал взволнованным голосом:
– Ты так же близок моему сердцу, как брат… Да ведет тебя и проведет Царь Царей и Царица ангелов, воин Божий!
– Аминь! – повторили староста красноставский, пан Пшиемский и каштелян бельский.
У князя были слезы в глазах, – ибо это был истинный отец рыцарей, – остальные присутствующие плакали, а Подбипента дрожал от пыла, и его чистая, смиренная, покорная и геройская душа радовалась близости жертвы.
– Ваше имя будет внесено в историю! – воскликнул каштелян бельский.
– Non nobis, non nobis, sed nomini Tuo, Domine[76], – сказал князь.
Рыцари вышли из шатра.
– Тьфу, меня что-то сдавило за горло и держит, а во рту так горько, точно после полыни, – говорил Заглоба, – А те все стреляют… чтоб вас молнии перестреляли! – сказал он, указывая на дымящиеся казацкие шанцы. – Ох, тяжело жить на свете! Пане Лонгин, так вы уж непременно пойдете? Ну да хранят вас ангелы… Чтоб зараза передушила это хамье!
– Я должен с вами проститься, – сказал пан Лонгин.
– Как так? Куда же вы идете? – спросил Заглоба.
– К ксендзу Муховецкому, исповедоваться. Надо очистить свою грешную душу, братец.
Сказав это, пан Лонгин поспешно отправился в замок, а они вернулись к валам. Скшетуский и Володыевский были как убитые и молчали, Заглоба же говорил:
– Меня все еще что-то держит за горло. Я не думал, что мне будет так жаль, но ведь это самый добродетельный в мире человек!.. Пусть мне кто-нибудь начнет перечить, и я ему дам в морду! О боже, боже! Я думал, что каштелян бельский будет удерживать, а тот еще подлил масла в огонь. Черт принес этого еретика! «В истории, говорит, будут писать о вас!» Пусть о нем самом пишут, но только не на шкуре Лонгина. А почему он сам не идет? У него по шести пальцев на ногах, как у кальвиниста, так ему легче ходить. Повторяю вам, Панове, что на свете все хуже и хуже, и, должно быть, правда то, что отец Жабковский пророчествует о конце света. Посидимте немного здесь, а потом пойдем в замок, чтобы хотя до вечера натешиться обществом нашего друга.
Но пан Подбипента после исповеди и причастия все время провел в молитве и появился только вечером во время штурма, который был одним из самых ужаснейших, так как казаки ударили именно тогда, когда войска, орудия и возы переходили в новые окопы. Был момент, когда казалось, что ничтожные польские силы падут под напором двухсоттысячного войска неприятеля. Польские полки так смешались с неприятельскими, что не могли отличать своих, – и три раза схватывались так. Хмельницкий напряг все свои силы, так как хан и его собственные полковники заявили ему, что это последний штурм и что с этого времени они только голодом будут морить осажденных. Но через три часа все приступы были отбиты с таким страшным уроном, что потом были вести, будто до сорока тысяч вражеских воинов пало в этом бою. Верно одно, что после сражения польские солдаты сложили к ногам князя целую груду неприятельских знамен и что этот штурм был действительно последним, так как после него неприятель продолжал лишь подкапываться под валы, отбивать возы, стрелять и брать поляков измором.
Неутомимый Еремия тотчас после штурма повел чуть не падавших от усталости солдат на вылазку, которая закончилась новым поражением неприятеля, – и только потом воцарилась тишина, как в окопах, так и в неприятельском лагере. Ночь была хотя теплая, но пасмурная. Четыре конные фигуры тихо и осторожно двигались к восточному краю валов. Это были пан Лонгин, Заглоба, Скшетуский и Володыевский.
– Хорошенько прикрой пистолеты, – шептал Скшетуский, чтобы порох не отсырел. Два эскадрона будут стоять наготове целую ночь. Как только ты выстрелишь, мы бросимся на помощь.
– Темно, хоть глаз выколи! – тихо сказал Заглоба.
– Это лучше, – ответил Подбипента.
– Тише! – прервал Володыевский. – Я что-то слышу.
– Это хрипит какой-то умирающий… Ничего!
– Лишь бы тебе добраться до дубовой рощи.
– О боже! Боже! – вздохнул Заглоба, дрожа, как в лихорадке.
– Через три часа будет светать!
– Значит, пора! – сказал Скшетуский сдавленным голосом.
– С Богом! С Богом!
– Будьте здоровы, братья, и простите мне, если я в чем-нибудь перед вами провинился.
– Ты провинился? О боже! – воскликнул Заглоба, бросаясь ему на шею.
Скшетуский и Володыевский обнимали его по очереди. Сдерживаемые рыдания давили им грудь. Один только Лонгин был спокоен, хотя и взволнован.
– Будьте здоровы! – повторил он еще раз.
И, подойдя к краю вала, он спустился в ров, через минуту показался на другом берегу, еще раз сделал товарищам знак на прощанье и исчез в темноте.
Между дорогой в Залощицы и трактом из Вишневиа была роща, пересеченная узкими лугами; она соединялась с громадным, старым, густым бором, уходящим далеко за Залощицы. Туда-то и решил пробраться пан Подбипента.
Дорога была очень опасная, ибо, чтобы добраться до дубовой рощи, нужно было пройти вдоль всего казацкого лагеря, но пан Лонгин выбрал ее нарочно, так как около табора ночью было больше всего людей и часовые должны были обращать меньше внимания на проходящих. Впрочем, все другие дороги, яры, заросли и тропинки охранялись стражей, которую то и дело проверяли есаулы, сотники, полковники и даже сам Хмельницкий. О дороге через луга и вдоль Гнезны нечего было и думать – там сторожили от сумерек до рассвета татарские конюхи.
Ночь была пасмурная и такая темная, что в десяти шагах нельзя было заметить не только человека, но даже дерево. Это было очень благоприятное обстоятельство для пана Лонгина, хотя, с другой стороны, он должен был идти очень медленно и осторожно, чтобы не упасть в одну из ям, вырытых поляками и казаками на всем пространстве поля.
Так он дошел до второго вала, который поляки оставили только сегодня вечером и, перейдя через ров, направился к казацким окопам.
Он остановился и стал прислушиваться: шанцы были пусты. Вылазка Еремин после штурма вытеснила из них казаков, часть которых пала, часть – скрылась в лагере. Множество тел лежало на склонах и вершинах этих насыпей. Пан Лонгин то и дело спотыкался о трупы, переходил через них и подвигался вперед. Порой какой-нибудь слабый вздох или стон говорили о том, что некоторые из лежащих еще живы.
За валами обширное пространство, тянувшееся до вторых окопов, построенных еще до прибытия Еремии, тоже было покрыто трупами. Ям и рвов здесь было еще больше, и всюду виднелись земляные укрытия, походившие в темноте на стога. Но и они были пусты. Везде царило глубокое молчание, нигде ни огня, ни человека – никого, кроме павших.
Пан Лонгин начал молитву за души умерших и направился дальше. Тихий шум польского лагеря, который был слышен до вторых окопов, все затихал, теряясь в отдалении, и наконец замолк. Пан Лонгин остановился и оглянулся в последний раз.
Теперь он уже почти ничего не мог видеть, так как в лагере не было огней, и лишь в одном окне замка слабо мерцал свет, как звездочка, которую то откроют, то закроют тучи, или как светляк, что попеременно то блестит, то гаснет.
«Братья мои, увижу ли я вас еще в жизни?» – подумал пан Лонгин.
И тоска придавила его, как огромный камень. Он едва мог дышать. Там, где мерцает этот блуждающий огонек, там его близкие, там братские сердца, князь Еремия, Скшетуский, Володыевский, Заглоба, ксендз Муховеикий. Там его любят и рады защитить его, а здесь ночь, пустота, мрак, трупы под ногами, вверху хороводы душ, а вдали кровожадный табор заклятых, беспощадных врагов.
Камень на сердце стал таким тяжелым, что его не мог вынести на своих плечах и этот великан. В душе его закрались сомнения.
В темноте налетела на него бледная тень тревоги и стала шептать ему на ухо: «Ты не пройдешь, это невозможно! Вернись, еще есть время! Выстрели из пистолета, и весь полк бросится к тебе на помощь… Через эти таборы, посреди этих дикарей никто не пройдет».
В эту минуту польский лагерь, томимый голодом, ежедневно осыпаемый ядрами, полный смерти и трупного запаха, показался пану Лонгину тихой, безопасной пристанью.
Там его друзья не поставили бы ему в вину, если бы он вернулся. Он скажет им, что это превосходит человеческие силы, а они сами уже не пойдут и никого не пошлют и будут ждать помощи от Бога или короля.
А если Скшетуский пойдет и погибнет?
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Это дьявольское искушение, – подумал пан Лонгин. – Я готов к смерти, и ничего худшего со мной не случится. Это дьявол пугает слабую душу пустынностью и мраком, ибо он всем пользуется. Неужели рыцарь может осрамиться, потерять славу, опозорить имя – не спасти войска, отказаться от небесного венца? Никогда!»
И он двинулся дальше, протянув вперед руки.
Вдруг до него донесся шорох, но уж не из польского лагеря, а с противоположной стороны, еще неясный, но какой-то глубокий и грозный, как ворчание медведя в темном лесу. Но тревога оставила уже душу пана Лонгина, тоска перестала мучить его и перешла лишь в сладкое воспоминание о близких; наконец, точно как бы в ответ угрозе, долетавшей со стороны табора, он еще раз повторил в душе: «А все-таки пойду!»
Через некоторое время он очутился в том месте, где в первый день штурма княжеская конница разбила казаков и янычар. Дорога здесь была ровнее, меньше было ям, рвов и трупов, так как казаки убрали павших в прежних боях. Здесь было немного светлее, так как все пространство было открыто. Оно покато спускалось к югу, но пан Лонгин свернул в сторону, чтобы проскользнуть между западным прудом и табором.
Он шел теперь быстро, без препятствий, и ему уже казалось, что он достигает линии табора, как вдруг какие-то новые отголоски привлекли его внимание.
Он тотчас остановился и после четверти часа ожидания услышал приближающийся топот и фырканье лошадей.
«Казацкая стража», – мелькнуло у него в голове.
Вскоре до его слуха донеслись человеческие голоса, и он стремглав бросился в сторону и прилег в первом попавшемся углублении, держа в одной руке пистолет, в другой меч.
Между тем всадники подъехали еще ближе и наконец поравнялись с ним. Было так темно, что он не мог их сосчитать, но слышал каждое слово разговора.
– Им тяжело, да и нам тяжело, – говорил чей-то сонный голос. – А мало ль добрых молодцев землю грызет!
– Господи, – сказал другой голос, – говорят, король недалеко… Что с нами будет?
– Хан рассердился на нашего батьку, и татары грозятся, что возьмут нас в неволю, если некого будет брать!
– И на пастбищах с нашими дерутся. Батька запретил ходить в кош, кто туда пойдет – пропадет.
– Сказывают, что между татарами есть переодетые ляхи. Эх, чтоб этой войны и не было!
– Нам теперь хуже, чем прежде.
– Король недалеко с ляшским войском – вот что плохо!
– Эх! В Сечи спал бы я теперь спокойно, а здесь шатайся впотьмах, как сиромаха!..
– Должно, тут сиромахи и бродят – лошади храпят.
Голоса понемногу удалялись и наконец умолкли. Пан Лонгин поднялся и пошел дальше.
Стал моросить дождик, мелкий, как пыль. Стало еще темнее.
По левой стороне от пана Лонгина что-то блеснуло, сначала один огонек, потом другой, третий, десятый. Теперь он был уверен, что находится на линии неприятельского табора.
Огоньки были редки и тусклы. Видно, все там уже спали и лишь кое-где пили и варили пищу на завтра.
«Слава богу, что я иду после штурма и вылазки, – сказал про себя Подбипента. – Они, должно быть, устали смертельно».
Едва он успел это подумать, как издали услышал лошадиный топот – ехал второй патруль.
Но земля здесь вся была в рытвинах, и потому легче было скрыться. Патруль проехал так близко, что чуть не наткнулся на пана Лонгина. К счастью, лошади привыкли проходить мимо лежащих тел и не испугались. Пан. Лонгин тронулся дальше.
На пространстве тысячи шагов он наткнулся еще на два патруля. Очевидно, весь круг, занятый лагерем, стерегли как зеницу ока. Пан Лонгин радовался в душе, что не встречает пеших часовых, которых обыкновенно ставили перед табором, чтобы они подавали вести конным патрулям.
Но радость его продолжалась недолго. Едва прошел он несколько сот шагов, как вдруг шагах в десяти увидел перед собой какую-то черную фигуру. Пан Лонгин хотя и был неустрашимым рыцарем, но почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу. Отступать или обойти было уже поздно. Фигура пошевелилась, – очевидно, заметила его.
Настала короткая минута колебания. Вдруг раздался приглушенный голос:
– Васыль, это ты?
– Я, – тихо ответил рыцарь.
– А горилка есть?
– Есть.
– Давай.
Пан Лонгин подошел.
– Что это ты такой высокий? – со страхом спросил тот же голос.
Что-то заклубилось в темноте. Короткий, сдавленный крик: «Госп…» вырвался у часового, потом послышался точно треск ломающихся костей, тяжелое хрипение, – и одна фигура тихо упала на землю.
Пан Лонгин пошел дальше.
Но он уже не шел по той же линии, – это была, очевидно, линия передовых постов, а потому он направился еще ближе к лагерю, желая пройти между постами и рядами возов.