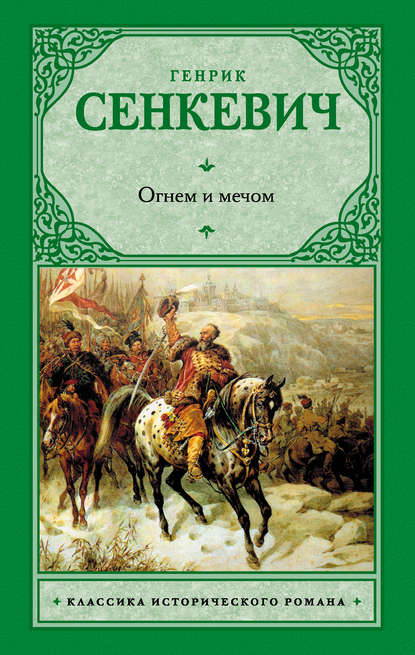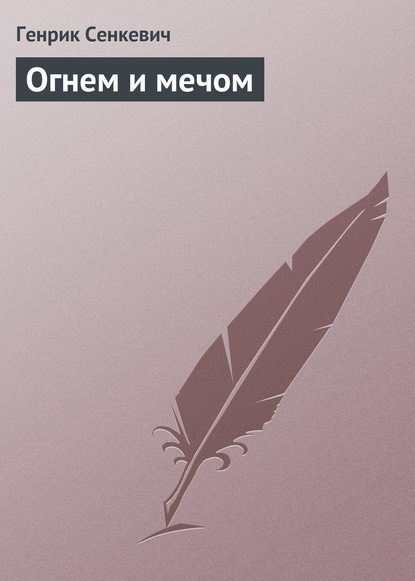полная версия
полная версияОгнем и мечом
– Правда, что мы с вами совершили великие подвиги в Варшаве, но сохрани Бог пробыть в ней долго, мы бы так изнежились, как тот карфагенянин, который ослаб от сладости воздуха в Капуе. А хуже всего женщины! Они каждого до гибели доведут; и заметьте, что нет ничего на свете коварнее женщин! Человек старится, а они его все еще манят!..
– Ну вот еще! Бросьте вы! – перебил Володыевский.
– Я и сам себе часто повторяю, что пора остепениться, но у меня кровь еще горяча. В вас много флегмы, а во мне бес сидит! Но дело не в том. Начнем теперь другую жизнь. Я уж соскучился по войне, отряд у нас хороший, а под Замостьем гуляют еще мятежные шайки; мы ими и займемся, когда будем разыскивать княжну. Мы увидим Скшетуского и этого великана, этого литовского журавля Лонгина, а его мы давно не видали.
– Вот вы по нему скучаете, а когда видите, то вечно пристаете к нему.
– Это потому, что он что ни скажет, то словно лошадь хвостом махнет, тянет каждое слово, как скорняк кожу. Видно, у него все в силу ушло, а не в голову. Если он обнимет кого-нибудь, то все ребра переломает, зато любой ребенок его проведет. Слыханное ли дело, чтобы такой богач был так глуп!
– Разве он действительно так богат?
– Когда я познакомился с ним, то его пояс был до того полон, что он не мог им опоясаться и носил его, как копченую колбасу! Он сам мне говорил, сколько у него деревень: Мышьикишки, Песьикишки, Пичвишки, Сыруцьяны, Цяпуцьяны, Капусьцяны, Балтуны. Кто запомнит все эти басурманские названия! Пол-уезда принадлежит ему. Подбипенты знатный род на Литве.
– А вы не преувеличиваете немного его состояния?
– Я не преувеличиваю, а повторяю, что слышал от него, а он никогда в жизни не солгал: слишком он глуп для этого.
– Ну, значит, Ануся будет барыней вовсю. Но я не согласен с вами, что он так глуп. Напротив, он очень рассудительный и степенный человек, и никто лучше его не сможет дать хорошего совета! А что он не краснобай, так что же делать! Не всех Бог создал такими красноречивыми, как вы. Что и говорить! Он доблестный рыцарь и прекрасный человек, да вы сами его любите и рады его видеть.
– Просто наказание с ним! – пробормотал Заглоба. – Я только потому и радуюсь, что буду допекать его Анусей.
– Не советую, это опасно. Хотя он очень добр, но тут может потерять терпение.
– Пусть теряет! Я ему обрублю уши, как Дунчевскому.
– Ну это оставьте. И врагу я не посоветую лезть к нему!
– Пусть он только подвернется мне под руку!
Это желание Заглобы исполнилось скорее, чем он ожидал. Приехав в Конскую Волю, Володыевский решил остановиться на отдых, так как лошади его были измучены. Каково же было удивление обоих друзей, когда они, войдя в темные сени постоялого двора, в первом встретившемся им шляхтиче узнали Подбипенту.
– Как поживаете? Давно мы вас не видали! – воскликнул Заглоба. – Как же могло случиться, что казаки не зарубили вас в Замостье?
Подбипента обнимал и целовал то одного, то другого.
– Вот мы и встретились! – повторял он с радостью.
– Куда вы едете? – спросил Володыевский.
– В Варшаву, к князю.
– Князя в Варшаве нет, он поехал в Краков с королем, будет нести перед ним булаву.
– А меня Вейгер послал с письмом и запросом, куда отправляться княжеским полкам, – слава богу, они уже не нужны в Замостье.
– В таком случае вам нечего ездить. Мы везем приказы.
Пан Лонгин нахмурился: он всей душой хотел доехать до князя, видеть двор и, главным образом, одну маленькую особу. Заглоба подмигнул Володыевскому.
– А я все-таки поеду в Краков, – сказал литвин, подумав. – Мне велено отдать письмо, я и отдам.
– Идем в избу, велим подогреть пива, – сказшт Заглоба.
– А вы куда едете? – спросил по дороге литвин.
– В Замостье, к Скшетускому.
– Поручика в Замостье нет.
– Вот тебе на! А где же он?
– Около Хорошина, громит шайки мятежников. Хмельницкий отступил, но его полковники жгут, грабят и режут по дороге; валецкий староста послал на них пана Якова Реговского.
– А Скшетуский с ним?
– Да, но они ходят отдельно, так как соперничают; об этом я потом расскажу подробно.
Между тем они вошли в избу. Заглоба велел подогреть три гарнца пива, потом, подойдя к столу, за которым уже сидели Володыевский и Лонгин, сказал:
– Вы не знаете самой важной и счастливой новости: мы с Володыевским убили Богуна.
Лонгин вскочил с места.
– Братья родненькие, да может ли это быть?
– Чтоб нам не сойти с этого места.
– И вы вдвоем его убили?
– Да!
– Вот новость. Боже! Боже! – воскликнул литвин, всплеснув руками. – Вы говорите вдвоем: то есть как вдвоем?
– Я хитростью довел его до того, что он вызвал нас, понимаете? Потом Володыевский дрался с ним и изрезал его, как пасхального поросенка или жареную курицу, понимаете?
– Но вы, значит, не дрались с ним?
– Ну, извольте радоваться! – сказал Заглоба. – Я вижу, что вы часто пускали себе кровь и от слабости у вас пострадал рассудок. Как же мне было драться с трупом или лежачего добивать?
– А вы говорили, что вдвоем убили его. Заглоба пожал плечами.
– Ну и терпение нужно с этим человеком. Не правда ли, пан Михал, Богун вызвал нас обоих?
– Да, – подтвердил Володыевский.
– Теперь поняли?
– Пусть и так будет, – ответил Лонгин. – Скшетуский искал Богуна под Замостьем, но его там уже не было.
– Что? Скшетуский искал его?
– Дело было так, – начал Лонгин. – Мы остались в Замостье, а вы поехали в Варшаву. Казаков ждать пришлось недолго. Они нахлынули из-под Львова целыми тучами, и глазом не окинуть. Но наш князь так укрепил Замостье, что они могли и два года простоять под ним. Мы думали было, что они так и не будут нас штурмовать, и это нас очень огорчало; мы хотели порадоваться их поражению, а так как между ними были и татары, то я надеялся, что мне Бог пошлет мои три головы.
– Просите у него одну, да хорошую, – прервал Заглоба.
– А вы все такой же – даже слушать гадко, – сказал литвин. – Мы думали, что они штурмовать не будут, а они вдруг как угорелые принялись подводить мины, а потом штурмовать. Оказалось, что Хмель не хотел штурма, но Чарнота, их обозный, начал на него нападать и говорить, что он трус и готов уже брататься с ляхами. Тогда Хмель позволил и первым послал на штурм Чар-ноту. Что там было, братья милые, я и сказать не могу. Света Божьего не было видно из-за огня и дыма. Казаки сначала шли храбро, засыпали рвы, полезли на стены, но мы их так оттрепали, что они бежали и от стен, и от мин; тогда мы сделали им вслед вылазку в четыре хоругви и перерезали их как баранов!
– Жаль, что меня не было на этом празднике! – воскликнул Володыевский, потирая руки.
– И я бы там пригодился! – твердо сказал Заглоба.
– Там больше всех отличился пан Скшетуский и пан Яков Реговский, – продолжал литвин, – оба отменные рыцари, но они не дружны между собой. Особенно Реговский косился на Скшетуского и, наверно, затеял бы с ним ссору, если б Вейгер под страхом казни не запретил поединков. Мы не понимали сначала, почему Реговский пристает к Скшетускому, а потом узнали, что он родственник Лаща, которого князь из-за Скшетуского выгнал из отряда. Вот источник злобы Реговского к князю и к нам всем, а особенно к поручику; оттуда и соперничество между ними, которое покрыло их великой славой, ибо оба они старались отличиться друг перед другом, оба старались быть первыми и на стенах, и на вылазках. Но наконец Хмелю надоело штурмовать, и он начал правильную осаду, пуская в ход и хитрости с целью овладеть городом…
– Он больше всего рассчитывает на свою хитрость! – сказал пан Заглоба.
– Шальной он человек, да притом obscurus![66] – сказал Подбипента. – Он думал, что Вейгер немец; он не слыхал о поморских воеводах этой же фамилии и написал ему письмо, думая склонить его к измене, как иностранца и наемника. А Вейгер ответил ему, как и что, и что он неудачно к нему обратился. Письмо это староста хотел непременно отправить не с трубачом, а с кем-нибудь познатнее, чтобы показать свое значение. Но как идти к казакам, этим диким зверям? Охотника между офицерами не нашлось. Другие боялись уронить свое достоинство; я и вызвался свезти, и – слушайте! – теперь-то и начинается самое интересное.
– Слушаем внимательно, – сказали оба друга.
– Я поехал и застал гетмана пьяным. Он принял меня ядовито, особенно когда прочел письмо, и стал грозить булавой, а я, поручив свою душу Богу, думал так: если он меня тронет, я ему кулаком голову разобью! Что ж мне было делать, братья милые?
– Это было благородно с вашей стороны – так думать!
– Но его сдержали полковники и заслонили меня собою, – продолжал Лонгин, – особенно один молодой, он обхватил его, отташил и говорит: «Не пойдешь, батько, ты пьян». Смотрю, кто меня так защищает, дивлюсь его дерзости с Хмельницким и вижу: это Богун.
– Богун? – крикнули Володыевский и Заглоба.
– Да. Я узнал его, ведь я его видел в Розлогах и он меня видел. И сказал он Хмельницкому: «Это мой знакомый». А Хмельницкий – быстро меняются решения у пьяных – ответил: «Коли он твой знакомый, сынок, то дай ему пятьдесят талеров, а я дам ответ». И он дал ответ, а насчет талеров я, чтобы не дразнить зверя, сказал, чтоб он отдал их своим гайдукам, а офицеру не пристало получать подачки. Он проводил меня из шатра довольно учтиво, но едва я вышел, как подходит ко мне Богун: «Мы виделись в Розлогах», – говорит он. «Да, – ответил я, – но тогда я не ожидал, что встречу вас в этом лагере». А он: «Не своя воля, а несчастье загнало меня сюда». В разговоре я сказал, что мы победили его под Ярмолинцами. «Я не знал, с кем имею дело, и ранен был в руку, люди мои думали, что это сам Ерема их бьет». – «И мы не знали, – говорю, – если бы знал это Скшетуский, то одного из вас уж не было бы в живых».
– Это верно… А что он ответил? – спросил Володыевский.
– Смутился и переменил разговор. Рассказывал, как Кривонос послал его с письмами к Хмельницкому во Львов, чтобы он немного отдохнул, а Хмельницкий не хотел его отпустить назад и дал ему другие поручения, как человеку представительному. Наконец, он спросил: «Где Скшетуский?«…Я сказал ему, что в Замостье, а он прибавил: «Может быть, встретимся», и простился со мной.
– Я догадываюсь, что вслед за этим Хмельницкий отправил его с письмами в Варшаву, – сказал Заглоба.
– Так оно и есть, только подождите. Я возвратился в крепость и отдал отчет пану Вейгеру в моем деле. Была уже поздняя ночь. На другой день снова штурм, еще более ожесточенный, чем первый. Я не имел времени видеться с паном Скшетуским и только на третий день говорю ему, что видел Богуна и говорил с ним. А тут было много офицеров и пан Реговский в том числе. Тот услыхал и сказал с насмешкой: «Я знаю, что тут дело идет о женщине, если вы такой рыцарь, как говорят о вас, Богун в ваших руках: вызовите его, и будьте уверены, что этот забияка не откажется, а мы со стены полюбуемся на интересное зрелище. Впрочем, о вас, вишневецких, больше говорят, чем вы есть на самом деле». Тут пан Скшетуский так посмотрел на Реговского, что тот сразу прикусил язык. «Вы так думаете? Хорошо! Я только не знаю, решитесь ли вы, который сомневается в нашей храбрости, пойти в казацкий лагерь и вызвать от моего имени Богуна». А Реговский говорит: «Отчего бы не пойти, но я вам ни брат ни сват, поэтому и не пойду». Тут все подняли Реговского на смех; тот обиделся не на шутку и на другой день действительно пошел в казацкий лагерь, но уже не застал там Богуна. Сначала мы не верили этому, но теперь, после вашего рассказа, я вижу, что Реговский сказал правду. Хмельницкий, должно быть, действительно послал Богуна, а вы его убили.
– Так оно и было, – сказал Володыевский.
– Скажите нам, – спросил Заглоба, – где мы найдем теперь Скшетуского? Нам необходимо отыскать его, чтобы вместе отправиться на поиски княжны.
– В Замостье вы его легко найдете; его там все знают. Он вместе с Регов-ским казацкого полковника Калину наголову разбил. Позже Скшетуский один два раза уничтожал татарские чамбулы.
– А Хмельницкий что, молчит?
– Хмельницкий за них не заступается; он говорит, что они грабят вопреки его приказаниям. Иначе кто бы поверил его покорности королю?
– Какая мерзость это пиво! – сказал Заглоба.
– За Люблином вы поедете краем, совершенно опустошенным, – продолжал далее литвин. – Казацкие отряды заходили даже дальше Люблина, татары брали пленных и сколько перехватали около Замостья и Грубешова, это только Богу одному известно. Несколько тысяч отбитых пленников Скшетуский уже отослал в крепость. Он там трудится изо всех сил, забывая о себе.
Пан Лонгин вздохнул и понурил голову.
– Я думаю, что Бог непременно пошлет утешение Скшетускому и возвратит ему потерянное счастье, потому что велики заслуги этого рыцаря. В наше время порока и себялюбия, когда каждый думает только о самом себе, он всем жертвует для отечества. Милые вы мои, ведь он давно бы мог получить отпуск у князя, мог бы ехать на розыски княжны, а вместо этого ни на минуту не бросил своей службы, нося в сердце муку, не отдыхает ни минуты.
– Римлянин по душе, что и говорить! – вздохнул Заглоба.
– Пример нам брать с него нужно.
– В особенности вам, пан Подбипента. Вы на войне ищете не славы отечества, а три каких-то глупых головы.
– Бог видит мою душу! – воскликнул пан Лонгин и поднял очи к небу.
– Скшетуского Бог наградил смертью Богуна, – сказал Заглоба, – и тем, что послал минуту спокойствия Республике. Теперь для него настало время подумать о себе.
– Вы поедете с ним? – спросил литвин.
– А вы нет?
– Я бы рад всей душой, если бы не эти письма: одно от старосты валецкого к королю, другое к князю, а третье от пана Скшетуского тоже к князю с просьбой об отпуске.
– Мы везем ему разрешение на отпуск.
– Да, но как же мне все-таки быть с письмами?
– Вы должны ехать в Краков, иначе и быть не может. Наконец, я откровенно скажу вам: ваши руки очень пригодились бы нам в нашем предприятии, но ни на что другое вы не годитесь. Там нужно держать ухо востро, прежде всего переодеться в казацкие свитки, прикидываться мужиками, а вы так бросаетесь в глаза своим ростом, что каждый спросит: что это за верзила, откуда взялся такой казак? Нет, нет! Поезжайте вы в Краков, а мы как-нибудь и без вас управимся.
– И я так же думаю, – сказал Володыевский.
– Так я поеду, – ответил пан Подбипента. – Да благословит вас милосердый Бог и да поможет он вам. А вы знаете, где ее скрывают?
– Богун не хотел говорить. Мы знаем только то, что мне удалось подслушать во время моего плена, но и этого совершенно достаточно.
– Как же вы найдете?
– А голова моя на что? Не в таких тяжелых положениях бывать приходилось. Теперь все дело в том, как бы поскорей добраться до Скшетуского.
– Спросите о нем в Замостье. Пан Вейгер должен знать: они переписываются. Ну, да благословит вас Бог!
– И вас также, – сказал Заглоба. – Когда будете у князя в Кракове, поклонитесь от меня пану Харлампу.
– Кто он такой?
– Литвин, красавец писаный. В него все фрейлины княгини повлюблялись.
Лонгин вздрогнул.
– Вы шутите? – сказал он.
– Будьте здоровы! И дрянь же пиво в этой Конской Воле! – закричал Заглоба, подмигивая Володыевскому.
XV
И пан Лонгин уехал в Краков с сердцем, пронзенным стрелой, а жестокосердный Заглоба с Володыевским поехали в Замостье, где пробыли только день, так как комендант, староста валецкий, сказал им, что от Скшетуского он уже давно не имеет никаких известий и что, вероятно, полки под его командой двинутся к Збаражу для защиты края от мятежных шаек. И это было очень возможно, так как Збаражу, как собственности Вишневецких, грозила наибольшая опасность от нападения смертельных врагов князя. Благодаря этому Заглобе и Володыевскому предстояло долгое и трудное путешествие, а так как они отправились в поиски за княжной, то рано или поздно должны были ехать, и потому отправились немедленно, останавливаясь лишь по необходимости для отдыха или разгрома разбойничьих шаек, которые бродили еще там и сям.
Они ехали по таким разоренным местам, где по целым дням не видали живой души. Местечки были разрушены, деревни сожжены и пусты, народ перебит и взят в плен. Везде встречались им лишь трупы людей, остовы домов, костелов, церквей да воющие на пепелищах собаки. Кто пережил татарско-казацкое нашествие, тот прятался в лесах и умирал там от холода и голода, боясь покинуть свое убежище и не веря, что несчастье уже миновало. Володыевский поневоле должен был кормить лошадей древесной корой или остатками зерна, которые находил в полуобгоревших амбарах. Но все же они подвигались довольно быстро, запасаясь главным образом теми припасами, которые отбивали у разбойничьих шаек.
После войны и голода наступили холода – третий враг несчастного народа, – но этого врага народ все же ждал с нетерпением, так как он был верным препятствием войны. Володыевский, как человек опытный и хорошо знавший Украину, надеялся, что поиски княжны скоро увенчаются успехом, так как главное препятствие – война – им не помешает.
– Не верю я, – говорил Володыевский, – чтобы Хмельницкий из любви к королю отступал на Украину, это хитрая лиса! Он отлично знает, что казаки, когда они не за окопами, ничего не стоят, и если б их было впятеро больше против нас, им не устоять. Теперь они пойдут на зимовку, а стада свои выпустят в степь. Татарам тоже нужна добыча, и если зима будет суровая, то мы будем спокойны до весны.
– Может, и дольше – они все-таки короля уважают. Да нам и не нужно так много времени; если Бог позволит, то на Масляной мы и отпразднуем свадьбу Скшетуского.
– Только бы нам с ним не разъехаться, это вызвало бы новое замедление.
– Не булавку же ищем: с ним ведь три полка. Быть может, мы его догоним под Збаражем, если он не застрял где-нибудь с гайдамаками.
– Догнать мы его не можем, а, может быть, узнаем, что-нибудь о нем по дороге, – возразил Володыевский.
Но узнать было трудно. Крестьяне рассказывали, что видели кое-где отряды, слышали о стычках с мятежниками, но не могли сказать, чьи это войска; они могли быть как Реговского, так и Скшетуского. Вот все, что узнали два друга. До их сведения дошло, что казаки в стычке с литовцами потерпели поражение. Весть эта пролетела как эхо еще до отъезда Володыевского из Варшавы, хотя в этом многие сомневались, но теперь она распространилась по всей стране со всеми подробностями и выдавалась за истину. За поражения, причиненные Хмельницким коронным войскам, заплатили литовские. Сложил свою голову Пулксенжыц, вождь старый и опытный, и дикий Небаба, и вождь сильнейший, чем они, – Кшечовский, который в рядах мятежников дослужился не до почестей и отличий, не до староств и воеводств, а до посадки на кол. Казалось, что сама Немезида мстила ему за немецкую кровь, пролитую в Заднепровье, – кровь Флика и Вернера, так как он попал в руки радзивилловских немцев и, несмотря на тяжелые раны, был посажен на кол, на котором судорожно бился целый день, пока не испустил дух. Таков был конец того, кто по своей храбрости и военному гению мог стать вторым Стефаном Хмелецким и которого жажда богатства и славы толкнула на путь измены, клятвопреступления и страшных убийств, достойных дикого Кривоноса.
Вместе с ним, Пулксенжыцом и Небабой в этом побоище сложили свои головы около двадцати тысяч казаков, а те, что уцелели, погибли в болотах Припяти. Ужас как вихрь пролетел по всей Украине; всем казалось, что после побед под Желтыми Водами, Корсунью, Пилавцами настали времена таких погромов, какие прежде бывали – под Солоницей и Кумейками. Сам Хмельницкий, хотя был уже в зените славы и сильнее чем когда-нибудь, испугался, узнав о смерти своего «друга» Кшечовского, и снова начал обращаться к колдуньям, чтобы узнать свою судьбу. Они предвещали большие войны, победы и поражения, но не могли угадать, какая участь ждет гетмана.
Между тем можно было ожидать продолжительного затишья как благодаря поражению Кшечовского, так и по случаю зимы. Народ стал успокаиваться, опустошенные деревни заселялись; мало-помалу все ободрялись.
С такой же бодростью два приятеля после продолжительного пути благополучно прибыли в Збараж и, назвав себя в замке, тотчас же отправились к коменданту, в котором, к великому своему удивлению, узнали Вершула.
– А где же Скшетуский? – спросил Заглоба после первых приветствий.
– Его нет, – ответил Вершул.
– Значит, вы командуете крепостью?
– Да. Прежде командовал Скшетуский, но он уехал, вверив мне гарнизон до своего возвращения.
– А когда он обещал вернуться?
– Он ничего не сказал, – сам не знал, видно, сказал лишь перед отъездом: «Если кто ко мне приедет, пусть ждет меня здесь».
Володыевский и Заглоба переглянулись.
– Давно он уехал? – спросил Володыевский.
– Дней десять тому назад.
– Пан Михал, пусть же пан Вершул даст нам поужинать, на пустой желудок трудно рассуждать о делах. За ужином поговорим.
– От души рад вам, я и сам собирался садиться за стол. Впрочем, пан Володыевский, как старший офицер, примет начальство, я буду у него в гостях, а не он у меня.
– Нет, оставайтесь командовать, – сказал Володыевский, – вы старше меня по годам, к тому же мне, верно, придется уехать.
Вскоре ужин был подан на стол, за который сейчас же сели, и Заглоба, утолив голод двумя мисками похлебки, обратился к Вершулу и сказал:
– Вы не догадываетесь, куда мог уехать Скшетуский?
Вершул велел слугам, прислуживавшим у стола, выйти и, подумав немного, сказал:
– Догадываюсь, но так как Скшетускому важно сохранение тайны, то я не хотел говорить при людях. Он воспользовался благоприятным моментом, так как мы, наверное, простоим здесь до весны, и, как я думаю, поехал искать княжну, которая в руках Богуна.
– Богуна уже нет на свете, – сказал Заглоба.
– Как так?
Заглоба рассказал все, как было, и это доставляло ему явное удовольствие. Вершул, как и Лонгин, не мог надивиться этому происшествию и сказал:
– Тогда Скшетускому будет легче ее найти.
– Весь вопрос в том, отыщет ли он ее. Взял ли он с собой людей?
– Никого, кроме одного казачка-русина и трех лошадей.
– И хорошо сделал, там без хитрости не обойдешься. До Каменца можно бы дойти и с полком, но в Ушице и Могилеве, верно, стоят казаки, там у них хорошая зимовка, а в Ямполе – их гнездо; туда нужно идти или с целой дивизией, или одному.
– Откуда вы знаете, что он отправился именно в ту сторону? – спросил Вершул.
– Княжна спрятана за Ямполем, и он знает об этом, но там столько оврагов, буераков и камышей, что и знающему попасть туда трудно, а о незнающем и говорить нечего. Я ездил на суд в Ягорлык, за лошадьми туда тоже ездил и знаю. Если б мы были вместе, может быть, дело пошло бы скорее, а как он там в одиночку – не знаю, может, только случайно узнает дорогу, так как и спрашивать опасно.
– Так вы хотели ехать вместе?
– Да, а теперь я и не знаю, как нам быть, – сказал Заглоба, – ехать или нет?
– Предоставляю решать вам.
– Гм!.. Прошло десять дней с тех пор, как он уехал, не догнать его; тем более что он велел ждать его здесь. Бог весть, какой дорогой он поехал? Или на Бар и Проскуров, старой проезжей дорогой, или на Каменец-Подольск. Трудно решить.
– Не забудьте притом, – сказал Вершул, – мы только предполагаем, что он поехал за княжной.
– В том-то и дело! – сказал Заглоба. – Может быть, он поехал что-нибудь разузнать, а потом вернется в Збараж; он знал, что мы должны были ехать вместе, и мог нас ждать. Трудно угадать!
– Я советовал бы вам подождать дней десять! – заметил Вершул.
– Если ждать, то ждать больше или совсем не ждать!
– По-моему, не ждать, – заметил Володыевский, – мы ничего не теряем, если завтра поедем. Если Скшетуский не отыщет княжны, то, может быть, нам Бог поможет.
– Видите ли, пан Михал… Нельзя в этом деле ничего оставлять без внимания, – сказал Заглоба. – Вы еще молоды и ищете приключений, а здесь опасно именно то, что если мы будем разыскивать ее порознь, то возбудим подозрение в тамошних людях. Казаки хитры и боятся, как бы кто не открыл их замыслов. Они могут быть в сношениях с пограничным пашой или заднестровскими татарами, кто их знает! Они могут обратить внимание на посторонних людей, которые будут расспрашивать о дороге. Я их знаю. Выдать себя легко, а потом что?
– А может быть, Скшетуский попадет в такое положение, что ему нужна будет наша помощь?
– Это возможно!
Заглоба задумался так, что жилы вздулись у него на висках. Наконец, точно очнувшись, он сказал:
– Обсудив все, я нахожу, что лучше ехать.
Володыевский вздохнул с облегчением.
– А когда?
– Дня через два или три, чтобы быть бодрыми душой и телом. На следующий день друзья начали собираться в дорогу, как вдруг накануне их отъезда слуга Скшетуского, казачок Цыга, привез известия и письмо к Вершулу. Услыхав об этом, Заглоба и Володыевский отправились в квартиру коменданта и прочли следующее: