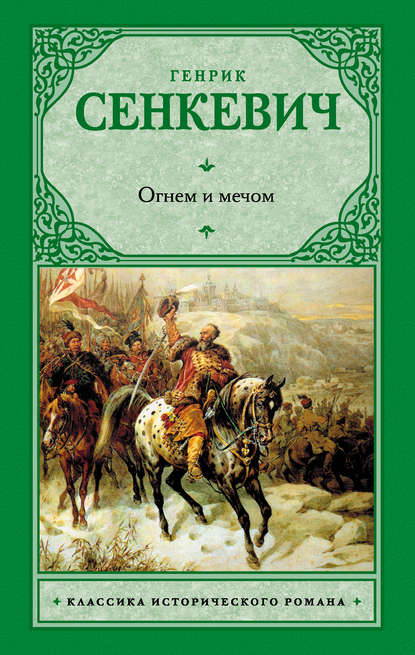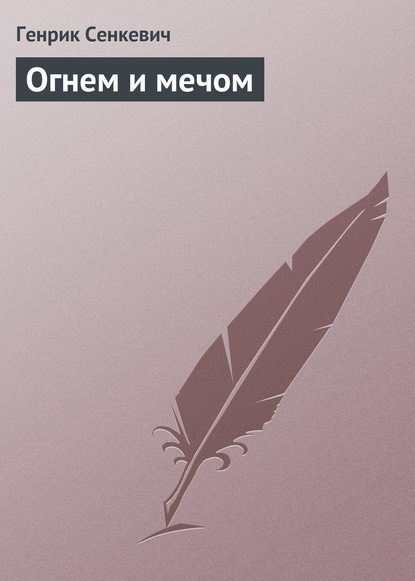полная версия
полная версияПотоп
– Я велю согреть вам вина и сама принесу.
– Дай и моим висельникам бочонок водки и прикажи их пустить в сарай, пусть они обогреются хоть около скотины, а то они совсем окоченели.
– Я ничего для них не пожалею, ведь это ваши солдаты.
Сказав это, она так улыбнулась, что у Кмицица сердце забилось от радости, и выскользнула, как кошечка, чтобы сделать нужные распоряжения.
Кмициц ходил по комнате и, то поглаживая свои кудри, то покручивая усы, обдумывал, как ему рассказать о том, что произошло в Упите.
– Нужно сознаться во всем, – пробормотал он, – делать нечего. Пусть товарищи смеются, что я под башмаком.
И он снова начал ходить по комнате и обдумывать, но наконец ему надоело так долго оставаться одному.
В это время казачок внес свечи, поклонился в пояс и вышел, а следом за ним вошла и молодая хозяйка, с блестящим цинковым подносом в обеих руках, на котором стоял горшочек с дымящимся венгерским и резной хрустальный стакан с гербом Кмицицев. Старый Биллевич получил его когда-то от отца Андрея в память своего пребывания у него в гостях.
Увидев хозяйку, Кмициц подбежал к ней с распростертыми объятиями.
– Ага, – закричал он, – обе ручки заняты, теперь ты не вырвешься у меня. И он нагнулся через поднос, а она отвернула свою русую головку, защищенную только паром, выходившим из горшочка.
– Да перестаньте же, я уроню поднос.
Но он не испугался этой угрозы, а потому воскликнул:
– Клянусь Богом, можно с ума сойти от таких прелестей!
– Вы уж давно с него сошли. Ну садитесь, садитесь. Он повиновался, а она налила ему в стакан вина.
– Говорите теперь, как вы судили в Упите виновных?
– В Упите? Как Соломон.
– Ну и слава богу! Мне бы хотелось, чтобы все в окрестности считали вас человеком степенным и справедливым. Ну рассказывайте, как все было…
Кмициц хлебнул вина и начал:
– Я должен рассказать все по порядку. Дело было так: мещане, во главе с бургомистром, требовали бумаги от великого гетмана или от пана подскарбия[4] на выдачу провианта. «Вы, – обратились они к солдатам, – волонтеры и не имеете права ничего требовать от нас даром. Квартиры мы вам даем из любезности, а провизии дадим тогда, когда будем знать, кто нам за нее заплатит».
– Они были правы или нет?
– По закону правы, но у солдат были сабли, а по старой пословице – «у кого сабля, тот и прав». Поэтому они и ответили мещанам: «Мы сейчас же выпишем разрешение на вашей шкуре». С этого и началось. Бургомистр со своими лапотниками спрятались в одной из улиц, солдаты их осадили; не обошлось, конечно, без выстрелов. Для острастки солдаты зажгли несколько амбаров, а нескольких человек отправили на покой.
– Как на покой?
– Кто получит саблей по голове, тот и идет на покой.
– Господи боже! Да ведь это разбой.
– Поэтому я и поехал. Солдаты сейчас же явились ко мне с жалобами на голод и притеснения. «В брюхе у нас пусто, – говорили они, – что же нам делать?» Я велел позвать бургомистра. Он долго раздумывал, наконец пришел, а с ним еще трое и все стали плакаться: «Пусть бы уж денег не платили, но зачем убивать людей и жечь город? Есть и пить мы бы им дали, но они требовали сала, меду и всяких лакомств, а мы – люди бедные, и у нас этого нет. Мы будем жаловаться, и вы перед судом ответите за ваших солдат».
– Господь вас не оставит, – воскликнула панна, – если вы над ними учинили суд праведный.
– Праведный?
При этом Кмициц сделал виноватое лицо, как школьник, принужденный сознаться в своих шалостях.
– Королева моя, – проговорил он наконец жалобным голосом, – сокровище мое, не сердись на меня…
– Что же вы сделали? – спросила Оленька тревожно.
– Я велел дать по сто плетей бургомистру и тем троим, – выпалил торопливо Кмициц.
Оленька ни слова не ответила, опустила лишь голову на грудь и погрузилась в молчание.
– Вели казнить меня, – воскликнул Кмициц, – но не сердись. Я еще не все сказал…
– Еще? – простонала девушка.
– Они послали в Поневеж за помощью. Оттуда прислали сотню каких-то дураков под командой офицеров. Первых я усмирил раз навсегда, а офицеров… ради бога, не сердись… велел гнать голых по снегу, как сделал это с Тумгратом в Оршанском.
Девушка подняла голову; ее суровые глаза пылали гневом, а щеки покрылись краской.
– У вас нет ни стыда ни совести! – сказала она.
Кмициц взглянул на нее с изумлением, помолчал с минуту и, наконец, спросил нетвердым голосом:
– Это правда или шутка?
– Я говорю без шуток, такой поступок достоин разбойника, но не честного офицера. Я говорю это потому, что мне дорога ваша репутация, что мне стыдно за вас; не успели вы приехать, как все соседи считают вас насильником и пальцами на вас указывают.
– Что мне ваши соседи! Одна собака десять дворов сторожит, и то ей нечего делать.
– Они бедны – это правда, но над ними не тяготеет никаких преступлений, их имя ничем не запятнано. Никого кроме вас здесь не будет преследовать закон.
– Не беспокойся об этом. У нас всяк пан, кто может держать саблю в руках и собрать кое-какую партию. Что со мной могут сделать? Кого я боюсь?
– Если вы никого не боитесь, то знайте, что я боюсь гнева Божьего и… человеческих слез! А позора ни с кем делить я не хочу. Хоть я и слабая женщина, но честь имени, видно, дороже мне, чем тому, кто называет себя мужчиной и рыцарем.
– Ради бога, не угрожай мне отказом. Ты еще не знаешь меня…
– Верю, но, должно быть, и мой дед вас не знал.
Глаза Кмицица метнули молнии, но и в ней заговорила кровь Биллевичей.
– Кидайтесь, скрежещите зубами, – говорила она, – я не испугаюсь, хоть я одна, а у вас целая шайка разбойников: на моей стороне правда. Вы думаете, я не знаю, что вы в Любиче стреляли в портреты и насиловали девушек?! Вы меня не знаете, если думаете, что я всегда буду покорно молчать. Я требую от вас честности, и этого меня не может лишить никакое завещание. Напротив, дед мой поставил непременным условием, чтобы я сделалась женой только честного человека.
Кмицицу, видно, стало совестно за свои проделки в Любиче, потому что он опустил голову и спросил уже более тихим голосом:
– Кто вам рассказал об этом?
– Да вся шляхта говорит.
– Я рассчитаюсь с этими лапотниками, изменниками за их участие, – ответил мрачно Кмициц. – Все это произошло под пьяную руку, а в таких случаях солдаты не умеют себя сдержать. Что же касается девок, то я их не трогал.
– Я знаю, что это они, эти бесстыдники, эти разбойники, ко всему дурному вас подстрекают.
– Они не разбойники, а мои офицеры.
– Я этим вашим офицерам велела выйти вон из моего дома.
Оленька ожидала с его стороны вспышки, но, к своему великому изумлению, она заметила, что известие об изгнания его товарищей не только не произвело никакого впечатления, но, наоборот, привело его в прекрасное расположение духа.
– Ты им велела выйти вон? – спросил он.
– Да.
– И они ушли?
– Да.
– Ей-богу, ты смела и решительна, как рыцарь. С такими людьми шутить опасно. За это уж не один поплатился. Но они знают, что значит иметь дело с Кмицицем. Видишь, ушли покорно, как овечки. А почему? Потому что боятся меня!
При этом Кмициц взглянул самодовольно на Оленьку и стал подкручивать усы; но эта перемена настроения и это неуместное самодовольство рассердило ее вконец, и она сказала решительным тоном:
– Вы должны выбрать или меня, или их – иначе быть не может. Кмициц, казалось, не заметил ее решительного тона и ответил небрежно, почти шутливо:
– Зачем же мне выбирать, если и они, и ты принадлежите мне. Ты можешь делать себе в Водоктах все, что угодно… Но если мои компаньоны ничем тебя не оскорбили, то за что же мне их гнать? Ты не понимаешь, что значит – вместе служить. Никакое родство так не связывает людей, как совместная служба. Знай, что они чуть не тысячу раз спасли мне жизнь; а если их преследует закон, то я им обязан дать приют. Все это – шляхта и люди высокого происхождения за исключением Зенда. Но зато такого кавалериста, как он, нет во всей Речи Посполитой. Кроме того, если бы ты слышала, как он подражает голосам птиц и зверей, то он бы и тебе понравился.
При этом Кмициц рассмеялся так, точно никакого недоразумения между ними не было, а она сжимала в отчаянии руки, видя, что все, что она говорила об общественном мнении, о необходимости исправиться, о бесчестии, пролетело мимо его ушей. Уснувшая совесть этого солдата не могла понять ее отвращения к каждой несправедливости, к каждому бесчестному поступку. Как говорить с ним, чтобы он наконец понял?
– Да будет воля Божья! – сказала она наконец. – Если вы от меня отказываетесь, то идите своей дорогой… Бог не оставит сироты.
– Я от тебя отказываюсь? – спросил с изумлением Кмициц.
– Если не словами, то поступками; и если не вы, то я… Я не выйду за человека, на чьей совести лежат слезы и невинная кровь, на кого показывают пальцами и зовут разбойником и изменником.
– Как изменником? Не доводи меня до бешенства, не то сделаю что-нибудь такое, о чем потом буду жалеть! Пусть меня молния разразит, пусть черти возьмут мою душу, если я изменник, я, защищавший отчизну даже тогда, когда все уже опустили руки!
– Вы ее защищаете, а в то же время делаете то же самое, что и неприятель, – вы ее бесчестите, вы истязаете людей, презрев законы Божеские и человеческие. Пусть у меня сердце разорвется от боли, но я не хочу иметь такого мужа, не хочу!
– Не говори мне об отказе – я с ума сойду. Спасите меня, святые угодники! Не захочешь по доброй воле, я тебя силой возьму, хотя бы у тебя на страже стоял не только этот ляуданский сброд, но Радзивиллы и даже сам король, хотя бы для этого пришлось продать дьяволу свою душу…
– Не призывайте злого духа, не то он вас услышит, – воскликнула Оленька, протягивая вперед руки.
– Чего ты от меня хочешь?
– Будьте честны.
Оба замолчали, и наступила тишина. Слышны были только тяжелые вздохи Кмицица. Последние слова Оленьки прорвали кору, покрывавшую его совесть. Он чувствовал себя униженным, но не знал, что ей ответить, как защищаться. Начал быстрыми шагами ходить по горнице, а она сидела неподвижно. Над ними точно нависла черная туча. Им было тяжело друг с другом, и долгое молчание становилось все нестерпимее.
– Будь здорова, – промолвил вдруг Кмициц.
– Уезжайте, – ответила Оленька, – и пусть Господь вас наставит на путь истинный!
– Я уеду. Горько было твое питье, горек твой хлеб. Желчью меня здесь напоили…
– А вы думаете, что мне сладко? – ответила она голосом, в котором дрожали слезы. – Будьте здоровы!
– Будь здорова!
Кмициц направился было к дверям, но вдруг повернулся, подбежал к ней и, схватив ее за обе руки, сказал:
– Не отталкивай меня, ради Христа, неужто ты хочешь, чтобы я умер по дороге?!
При этих словах девушка зарыдала, а он держал ее в своих объятиях и повторял сквозь стиснутые зубы:
– Бейте меня, кто в Бога верует, бейте! Наконец воскликнул:
– Не плачь, Оленька, ради бога, не плачь! Я сделаю все, что хочешь. Тех отправлю… в Упите все улажу… буду жить иначе… я люблю тебя… Ради бога не плачь, у меня сердце разрывается. Я сделаю все, только не плачь и люби меня.
И он продолжал ее ласкать и успокаивать, а она, наплакавшись, сказала:
– Поезжайте! Господь водворит между нами мир и согласие. Я не сержусь на вас, мне только больно…
Луна уже высоко поднялась над снежными полями, когда Кмициц возвращался в Любич, а за ним, растянувшись длинной цепью по широкой дороге, следовали его солдаты. Они ехали через Волмонтовичи, но более кратким путем, был сильный мороз, и можно было безопасно ехать через болота.
К Кмицицу подъехал вахмистр Сорока.
– Пане ротмистр, – спросил он, – а где нам остановиться в Любиче?
– Иди прочь, – ответил Кмициц.
И он поехал вперед, ни с кем не разговаривая. Это была первая ночь в его жизни, когда в нем заговорила совесть, и он стал сводить с нею счеты, и счеты эти были для него тяжелее его панциря. Вот, например, он приехал сюда с запятнанной уже репутацией, а что он сделал, чтобы ее исправить? В первый же день позволил стрелять в портреты и развратничать, потом солгал, что сам не принимал в этом участия; потом позволял повторять это каждый день. Затем солдаты избили и обидели мешан, а он не только не наказал виновных, а бросился на поневежское войско, перебил солдат, офицеров погнал голыми по снегу. Они пожалуются на него, и он, конечно, будет присужден к лишению чести, состояния, а может быть, и жизни… Ведь нельзя же ему будет, как прежде, собрать шайку кое-как вооруженного сброда и смеяться над законом. Ведь он хочет жениться и поселиться в Водоктах. Ему придется служить под начальством гетмана, а там его легко могут найти и наказать по заслугам. Но даже если допустить, что все пройдет безнаказанно, то все-таки поступки останутся бесчестными, недостойными рыцаря, и воспоминание о них не изгладится ни в сердцах людей, ни в сердце Оленьки.
И когда он вспомнил, что она его все-таки не оттолкнула, что, уезжая, он прочел в ее глазах прощение, она показалась ему доброй, как ангел. Ему захотелось вернуться не завтра, а сейчас же, упасть к ее ногам, молить о прощении и целовать эти чудные глаза, которые плакали сегодня из-за него.
Он готов был разрыдаться и чувствовал, что так любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Клянусь Пресвятой Богородицей, – думал он, – что сделаю все, чего она от меня потребует; награжу щедро моих товарищей и отправлю их на край света: действительно, они подстрекают меня ко всему дурному».
Тут ему пришла в голову мысль, что, приехав в Любич, он, вероятно, застанет их пьяными или с девками, и им овладела такая злоба, что он готов был броситься на кого попало, хотя бы на этих солдат, и рубить их без милосердия.
– Задам я им! – бормотал он, теребя свои усы. – Они меня еще таким никогда не видели.
И он начал с ожесточением вонзать свои шпоры в бока лошади, дергать за узду и хлестать ее, так что она взвилась на дыбы, а вахмистр Сорока сказал солдатам:
– Наш ротмистр взбесился. Не дай бог теперь попасться ему под руку.
Кмициц действительно бесился. Кругом царила полнейшая тишина. Луна светила ярко, небо горело тысячами звезд, только в сердце рыцаря бушевала буря. Дорога в Любич казалась ему бесконечно длинной. И мрак, и лесная глубина, и поля, в зеленоватом свете луны, наполняли его сердце незнакомым до сих пор страхом. Наконец Кмициц почувствовал страшную усталость, что, впрочем, было и не странно, так как накануне он всю ночь кутил. Но быстрой ездой и утомлением он хотел стряхнуть с себя беспокойство и потому повернулся к солдатам и скомандовал:
– В галоп.
И помчался, как стрела, а за ним помчался весь отряд. Они неслись по лесам и пустынным полям, как адский отряд рыцарей-крестоносцев, которые, по преданию жмудинов, появляются иногда в ясные лунные ночи и летят по воздуху, предвещая войну и несчастья; и лишь когда показались покрытые снегом любичские крыши, они убавили шагу.
Ворота были раскрыты настежь. Кмицица удивляло, что, когда двор наполнился людьми и лошадьми, никто не вышел навстречу. Он рассчитывал увидеть освещенные окна, услышать звуки чекана, скрипок или громкие голоса своих товарищей, а между тем везде было темно, тихо, и лишь в окнах столовой мерцал слабый огонек. Вахмистр Сорока соскочил с лошади, чтобы поддержать ротмистру стремя.
– Ступай спать, – сказал Кмициц. – Часть поместится в людской, остальные в конюшнях. Лошадей тоже разместите, где можно, и принесите им сена.
– Слушаю, – ответил вахмистр.
Кмициц сошел с лошади, дверь в сени была открыта настежь.
– Эй, вы! Есть здесь кто-нибудь? Никто не откликался.
– Эй, вы! – повторил он еще громче. Молчание.
– Перепились, – пробормотал Кмициц. И он стиснул зубы от овладевшего им бешенства. Дорогой его охватывал неописанный гнев при мысли, что он застанет здесь пьянство и разврат, теперь эта тишина раздражала его еще больше.
Он вошел в столовую. На огромном столе горела красноватым светом сальная свеча. Ворвавшийся из сеней воздух заколебал пламя, и в течение нескольких секунд Кмициц ничего не мог рассмотреть. Лишь когда свеча перестала мерцать, он заметил ряд фигур, лежавших рядом вдоль стены.
– Перепились насмерть, что ли? – пробормотал он с беспокойством.
С этими словами он быстро подошел к первой фигуре с краю. Лица ее нельзя было рассмотреть, так как оно лежало в тени, но по белому поясу он узнал Углика и стал толкать его ногой.
– Вставайте вы, такие-сякие, вставайте!
Но Углик лежал неподвижно, с руками, вытянутыми вдоль туловища, а за ним и остальные; никто из них не зевнул, не дрогнул, не проснулся, не издал ни звука. Только теперь Кмициц заметил, что все они лежат на спине, в одинаковых позах, и сердце его сжалось от какого-то страшного предчувствия.
Он подбежал к столу и, схватив дрожащей рукой свечу, поднес ее к лицам лежащих.
Волосы дыбом встали у него на голове при виде страшной картины. Углика он узнал лишь по белому поясу, лицо и голова его представляли одну бесформенную, окровавленную массу, без глаз, носа и губ, и лишь огромные усы торчали в этой луже крови. Кмициц подошел к следующему: это лежал Зенд с оскаленными зубами и вышедшими из орбит глазами; в них отражался предсмертный ужас. Третьим был Раницкий; глаза у него были полузакрыты, а лицо покрыто белыми, кровавыми темными пятнами. Четвертый был Кокосинский, его любимец. Он, казалось, спокойно спал, и лишь сбоку на шее у него зияла большая рана, должно быть нанесенная кинжалом. За ним лежал громадный Кульвец-Гиппоцентавр с разорванным на груди кафтаном и с изрубленным сабельными ударами лицом. Кмициц снова поднес свечу ко всем лицам по очереди, и когда он подошел к Рекуцу, то ему показалось, что веки несчастного дрогнули.
Он сейчас же поставил свечу на пол и стал его слегка шевелить.
– Рекуц, Рекуц, – кричал он, – я Кмициц.
Лицо Рекуца дрогнуло, глаза и рот то открывались, то закрывались.
– Это я, – повторил Кмициц.
Глаза Рекуца открылись совсем, – он узнал друга и простонал.
– Ендрек… ксендза…
– Кто вас перебил? – кричал Кмициц, хватаясь за волосы.
– Бутрымы… – послышался едва внятный голос.
Затем Рекуц вытянулся, открытые глаза закатились, и он скончался.
Кмициц молча подошел к столу, поставил на нем свечу, а сам сел в кресло и стал ощупывать себе лицо, как человек, который, проснувшись, еще не знает, проснулся ли он на самом деле или продолжает спать.
Потом он снова взглянул на лежащие в полумраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы поднялись дыбом, и он крикнул с такой страшной силой, что стекла задрожали:
– Все, кто жив, ко мне!
Солдаты, разместившиеся в людской, первые услышали его голос и мигом сбежались в комнату. Кмициц указал им рукой на трупы.
– Убиты, убиты! – повторял он хриплым голосом.
Они бросились туда, куда он указывал, и остолбенели; но через несколько минут поднялся шум и суматоха. Прибежали и те, что спали в сараях. Дом наполнился светом и людьми, раздавались вопросы, восклицания, угрозы, и одни лишь убитые лежали тихо, равнодушные ко всему вокруг и, вопреки своей натуре, спокойные. Душа их улетела, а тел не могли разбудить уже ни призывы к битве, ни даже звон стаканов.
Между тем среди этого шума и говора все чаще и чаще слышались крики угроз и бешенства. Кмициц, смотревший на все до сих пор блуждающими глазами, вдруг вскочил и крикнул:
– На лошадей!
Все бросились к дверям. Не прошло и получаса, как сто с лишком человек мчалось во весь дух по широкой снежной дороге, а впереди летел, как безумный, Кмициц без шапки, с обнаженной саблей в руках. В ночной тишине раздавались от времени до времени восклицания:
– Бей, режь!
Луна дошла уже до предела своего небесного пути, и ее свет смешался с розовым светом, выходившим точно из-под земли. Небо все больше алело, точно от утренней зари, и, наконец, кровавое зарево залило всю окрестность. Целое море огня бесновалось над огромным бутрымовским «застенком», а разъяренные солдаты среди дыма и огня резали без пощады растерявшееся и обезумевшее от страха население.
Жители соседних «застенков» тоже поднялись. Госцевичи, Домашевичи, Гаштофты и Стакьяны, собравшись кучками около своих домов, указывали в сторону пожара и говорили: «Должно быть, ворвался неприятель и поджег Бутрымов, это не простой пожар».
Звуки выстрелов, раздававшиеся по временам, подтверждали их предположения.
– Идемте на помощь, – говорили более смелые, – не дадим братьям погибнуть.
Пока старики это говорили, молодежь, оставшаяся дома из-за молотьбы, садилась уже на лошадей. В Кракинове и Упите ударили в набат. В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.
– Оленька, встань, – звала панна Кульвец.
– Войдите, тетя. Что случилось?
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Выстрелы даже здесь слышны, там битва. Господи, смилуйся над нами!
Оленька вскрикнула, потом вскочила с постели и стала торопливо одеваться. Она вся дрожала, как в лихорадке: сразу догадалась, какой неприятель напал на несчастных Бутрымов.
Несколько минут спустя в комнату прибежали все находящиеся в доме женщины, плача и рыдая. Оленька упала перед образом на колени, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву за умирающих.
Но не успели они прочесть молитву и до половины, как в сенях раздался сильный стук в двери. Женщины в испуге вскочили, и снова их рыдания огласили комнату.
– Не отпирайте! Не отпирайте!
Стук повторился с еще большей силой. В это время в комнату вбежал казачок.
– Панна, – кричал он, – какой-то человек стучит, отпереть или нет?
– Он один?
– Один.
– Иди отопри.
Казачок побежал исполнить приказание, и она со свечой пошла в столовую, а за нею пошла панна Кульвец и все девушки.
Но едва она успела поставить свечу на стол, как в сенях послышался лязг железного засова, скрип отворяемых дверей, и перед женщинами предстал Кмициц; страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с помутневшими глазами.
– У меня близ леса лошадь пала, – воскликнул он, – меня преследуют. Панна Александра впилась в него глазами.
– Это вы сожгли Волмонтовичи? – Я… я…
Он хотел еще сказать что-то, но вдруг со стороны дороги и леса послышались крики и топот лошадей, который приближался с невероятной быстротой.
– Это черти за моей душой… Хорошо!.. – крикнул он точно в бреду. Панна Александра тотчас же бросилась к девушкам:
– Если будут спрашивать, сказать, что здесь никого нет, а теперь уходите в людскую.
Затем она указала рукой на соседнюю комнату и сказала Кмицицу:
– Спрячьтесь там, – и почти насильно втолкнула его в открытую дверь и тотчас ее заперла.
Между тем двор наполнился вооруженными людьми, и в один миг Бутрымы, Госцевичи, Домашевичи и другие вбежали в дом. Увидев свою панну, они остановились в столовой. А она со свечой в руках загораживала дорогу в следующую дверь.
– Скажите, что это? Чего вы хотите? – спрашивала она, не моргнув глазом перед их грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.
– Кмициц сжег Волмонтовичи, – крикнула хором шляхта, – замучил мужчин, женщин и детей. Это Кмициц все сделал!
– Мы перерезали его людей, – раздался голос Юзвы Бутрыма, – а теперь ищем его самого!
– Крови его, крови! Растерзать его, разбойника!
– Ищите его! – закричала девушка. – Чего же вы здесь стоите, бегите за ним.
– Да разве он не здесь скрылся? Мы его лошадь нашли около леса.
– Здесь его нет. Дом был заперт. Ищите в конюшнях, сараях.
– Он убежал в лес! – крикнул какой-то шляхтич. – Айда за ним, братцы.
– Молчать! – крикнул мощным голосом Юзва Бутрым. – А вы не скрывайте его, – обратился он к девушке. – На нем Божье проклятие!
Оленька подняла обе руки над головой.
– Проклинаю его, вместе с вами.
– Аминь! – воскликнула шляхта. – Скорее в лес. Отыщем его, живей, живей!
– Айда!
Снова раздался звон сабель и топот шагов. Шляхта выбежала на крыльцо и стала торопливо садиться на лошадей. Несколько человек бросились к постройкам и стали искать в конюшнях, в амбарах, потом голоса их стали доноситься все слабее и, наконец, удалились в сторону леса.
Панна Александра долго прислушивалась; когда все утихло, она постучала в дверь той комнаты, где скрылся Кмициц.
– Выходите, никого нет.
Кмициц вышел, шатаясь как пьяный.
– Оленька! – воскликнул он.
Она встряхнула распущенными волосами, закрывавшими, как плащ, ее плечи и сказала:
– Я ни знать, ни видеть вас не хочу! Берите лошадь и уезжайте отсюда.
– Оленька! – простонал Кмициц, протягивая к ней руки.