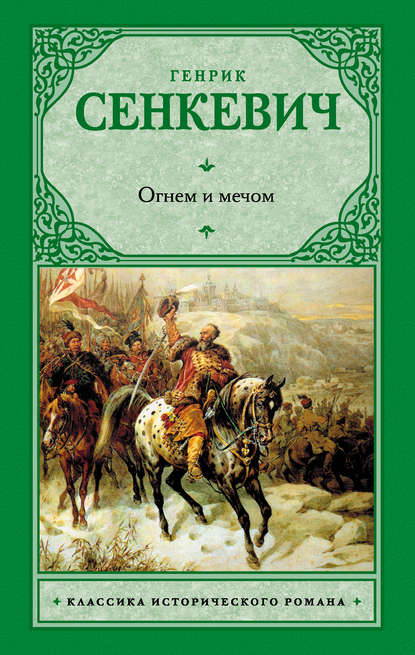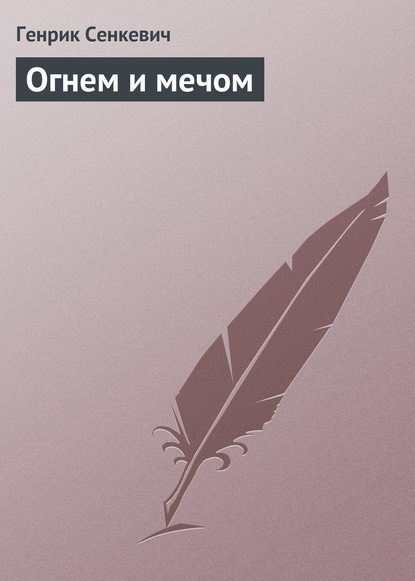полная версия
полная версияПотоп
– А я уже хотел отомстить и навестить тебя в Биллевичах; надеюсь, что ты принял бы своего старого товарища по оружию.
Мечник, услышав это, даже вспыхнул от счастья, а князь продолжал:
– Я вот все времени не выберу свободного; но уж когда будешь выдавать замуж внучку покойного Гераклия, то на свадьбу приеду непременно, ибо я у вас обоих в долгу.
– Дай Бог, чтобы это было как можно скорее! – воскликнул мечник.
– А пока позволь представить тебе оршанского хорунжего, пана Кмицица, из тех, что в родстве с Кишко, а через них и с Радзивиллами. Ты, верно, слышал эту фамилию от Гераклия Биллевича, он их любил, как родных братьев.
– Челом вам! – произнес мечник, удивленный высоким происхождением молодого рыцаря, о котором впервые услышал из уст Радзивилла.
– Бью челом вам, пане мечник, и поручаю себя вашей дружбе, – смело и не без гордости ответил Кмициц. – Полковник Гераклий был для меня вторым отцом и благодетелем, и, хотя потом между нами произошло недоразумение, я все же не переставал любить Биллевичей, как самых близких родных.
– А особенно, – сказал князь, дружески положив руку на плечо молодого человека, – не переставал любить одну из Биллевичей, в чем мне давно сознался.
– И каждому повторю это в глаза! – горячо произнес Кмициц.
– Тише, тише, – остановил его князь. – Мосци-мечник, этот кавалер – из серы и огня, за что он уже порядком поплатился; но теперь он под моим особым покровительством, и надеюсь, что если мы вдвоем умолим нашего прелестного судью, то удостоимся милостивого снятия опалы.
– Делайте, ваше, сиятельство, все, что вам угодно, – ответил мечник. – Несчастная панна должна теперь воскликнуть, как некая жрица перед Александром Македонским: «Кто устоит перед тобою!»
– А мы, как сей македонянин, удовлетворимся этим, – ответил со смехом князь. – Ну веди же нас к своей родственнице, я буду очень рад ее видеть.
– Готов к услугам вашего сиятельства. Она сидит с пани Войниллович, нашей родственницей. Простите, ради бога, если она смутится, ибо я не успел ее предупредить.
Предчувствие мечника оправдалось. К счастью, Оленька увидела его раньше и потому успела немного оправиться, но в первую минуту она чуть не лишилась чувств. Она смотрела на молодого рыцаря, как на призрак, и долго не могла поверить своим глазам. Ведь она думала, что этот несчастный скитается теперь где-нибудь по лесам, гонимый, как дикий зверь, правосудием, или с отчаянием смотрит сквозь решетку на веселый Божий мир. Сколько слез пролила она по нему, одному Богу ведомо! А между тем он в Кейданах, под покровительством гетмана, гордый, в бархате и парче, с полковничьим буздыганом за поясом, с поднятой головой, с надменным выражением лица, и сам великий гетман, сам Радзивилл дружески кладет ему руку на плечо. Странные и противоречивые чувства наполнили сердце девушки. Она то чувствовала облегчение, точно кто-нибудь снял с ее плеч тяжелое бремя, то сожаление о даром пролитых слезах и то с восторгом, то с каким-то страхом смотрела на рыцаря, который сумел спастись из пропасти.
А князь, мечник и Кмициц, окончив разговор, направились к ней. Девушка опустила ресницы и подняла руки, как птица поднимает крылья, когда хочет спрятать между них голову. Она чувствовала, что они приближаются, и заранее знала, что они подойдут к ней. Когда они остановились, она, не поднимая глаз, вдруг встала и низко поклонилась князю.
– Господи! – воскликнул князь. – Как этот цветок чудесно расцвел! Привет вам, милая панна! Привет внучке незабвенного Биллевича! Узнаете ли вы меня?
– Узнаю, ваше сиятельство! – ответила девушка.
– А я бы вас не узнал, в последний раз я видел вас почти ребенком. Поднимите же эти завесы с ваших глаз. Счастлив будет тот, кто получит этакую жемчужину, и несчастен тот, кто имел ее и потерял. Вот и теперь перед вами стоит такой несчастный в лице этого молодого кавалера! А вы его узнаете?
– Узнаю, – прошептала девушка, не поднимая глаз.
– Он великий грешник, и я привел его каяться перед вами. Наложите на него какую угодно епитимью, но не отказывайте в прощении грехов, ибо отчаяние приведет его к еще худшим поступкам.
Затем князь обратился к мечнику и пани Войниллович:
– Оставимте, Панове, молодых людей наедине, при исповеди не полагается присутствовать, и моя религия это запрещает.
Молодые люди остались с глазу на глаз. Сердце молодой девушки билось, как сердце голубя, когда его готовится схватить ястреб. Он тоже был взволнован. Обычная его смелость и порывистость оставили его. Некоторое время оба молчали. Наконец Кмициц спросил едва слышным голосом:
– Ты не думала меня здесь встретить, Оленька?
– Нет, – прошептала девушка.
– Ради бога, успокойся! Если бы перед тобой встал вдруг татарин, ты и тогда, верно, испугалась бы меньше. Не бойся! Смотри, сколько здесь людей. Я тебя ничем не обижу! Но если бы даже мы были совсем одни, то и тогда тебе нечего было бы бояться, ведь я поклялся уважать тебя. Верь мне!
– Как же могу я верить? – ответила она, поднимая на него глаза.
– Правда, я грешил, но теперь это прошло и больше не вернется. Когда после поединка с Володыевским я лежал на смертном одре, я сказал себе: «Ты не будешь больше брать ее силой, саблей, огнем, ты заслужишь ее добрыми делами и вымолишь у нее прощение. Ведь у нее сердце не каменное, ее гнев пройдет; она увидит, что ты исправился, и простит». Я поклялся исправиться и сдержу свое слово. Бог услышал мои молитвы: приехал пан Володыевский и привез мне гетманский приказ. Он мог его не передать, но передал. Добрая душа! С этих пор я был избавлен от суда покровительством гетмана. Я признался князю, как отцу, во всех своих грехах, и он не только простил меня, но даже обещал защитить от врагов. Да благословит его Бог! Я больше не буду злодеем, сойдусь с хорошими людьми, верну добрую славу, послужу отчизне, заглажу все мои проступки… Оленька, а ты что скажешь на это? Скажи мне хоть одно ласковое слово!
И он смотрел на нее, сложив с мольбою руки, точно молился на нее.
– Могу ли я поверить всему этому? – ответила девушка.
– Не только можешь, но и должна! – ответил Кмициц. – Ты видишь, все поверили: и князь-гетман, и пан Володыевский. Ведь они знают все мои проступки, а поверили… Почему же ты одна только не веришь?
– Я видела слезы, пролитые из-за вас… Я видела могилы, еще не поросшие травою.
– Могилы зарастут, а слезы я сам вытру.
– Так сделайте же это раньше, ваць-пане!
– Только дай мне надежду, что если я сделаю это, то ты вернешься ко мне. Хорошо тебе говорить: «Прежде сделай это». Ну а что будет, если ты за это время выйдешь за другого? Не приведи этого Бог, я с ума сойду от отчаяния. Заклинаю тебя, Оленька, дай мне уверенность, что я не потеряю тебя, прежде чем помирюсь с вашей шляхтой! Успокой меня! Ведь ты сама мне это писала, а я это письмо сохранил и в тяжелые минуты перечитываю. Я тебя ни о чем больше не прошу, только повтори мне еще раз, что ты будешь ждать меня и не выйдешь за другого.
– Вы знаете, ваць-пане, что я не могу этого сделать, по смыслу завещания. Я могу только поступить в монастырь.
– Вот бы ты мне удружила! Ради бога, оставь в покое монастырь: при одной мысли о нем у меня мороз проходит по коже! Не думай об этом, не то я тут же, при всех, упаду к твоим ногам и буду молить, чтобы ты этого не делала. Пану Володыевскому ты отказала, знаю, он мне сам говорил об этом. Он и уговорил меня заслужить тебя добрыми делами. Но к чему все это, если бы ты захотела идти в монастырь? Ты скажешь, что нужно делать добро для добра; а я тебе скажу, что люблю тебя до отчаяния и больше ничего знать не хочу. Когда ты уехала из Водокт, едва я поднялся с постели, как опять начал тебя искать. Я ставил полк на ноги, у меня не было времени ни поесть, ни выспаться, но и тогда я не переставал тебя искать. Такова уж, знать, моя доля, что без тебя мне нет ни жизни, ни покоя! Точно заноза в сердце. Только одними воздыханиями и жил я! Наконец я узнал, что ты у пана мечника в Биллевичах. И вот, говорю тебе, боролся я с мыслями, как с медведем. Наконец я сказал себе: я не сделал еще ничего хорошего – не поеду. Но вот князь, отец родной, сжалился надо мной и пригласил вас в Кейданы, чтобы я мог хоть насмотреться на тебя… Ведь мы на войну идем… Я не прошу, чтобы ты завтра же выходила за меня. Но дай услышать хоть одно слово от тебя, дай надежду – и мне станет легче. Я не хочу погибнуть, но на войне это с каждым может случиться, ведь я не стану прятаться за других… и ты должна простить мне, как прощают умирающему.
– Да хранит вас Бог и вернет невредимым! – ответила девушка мягким голосом, по которому Кмициц сразу угадал, что его слова произвели впечатление.
– Золото мое! Спасибо тебе и за это! Так ты не пойдешь в монастырь?
– Пока нет.
– Да благословит тебя Бог!
И как весной тают снега, так таяло их недоверие – и они опять становились близки друг другу. На душе у них стало легче, глаза повеселели. А ведь она ничего не обещала, да и он был настолько умен, что ничего сразу не требовал. Но она сама чувствовала, что ей нельзя, что она не имеет права закрывать перед ним дорогу к исправлению, о котором он говорил так искренне. В его искренности она не сомневалась ни минуты, это был не такой человек, который мог бы притворяться. Но главная причина, благодаря которой она его не оттолкнула и оставила ему надежду, была та, что в глубине души она еще его любила. Любовь эту на время придавила гора горечи, разочарования и боли, но она жила, готовая верить и прощать без конца.
«Он лучше, чем его поступки, – думала девушка, – и нет уж тех, кто толкал его на дурные дела. С отчаяния он мог бы решиться на что-нибудь еще худшее, так пусть же он не отчаивается!»
И ее доброе сердце обрадовалось тому, что простило. На щеках Оленьки выступил румянец, как свежие розы на росе. Глаза нежно и живо блестели и точно наполняли своим светом залу. Проходившие мимо любовались этой прелестной парой – и действительно, трудно было найти другую такую же во всей зале, хотя в ней собрался цвет всей шляхты.
Притом оба, точно сговорившись, были одинаково одеты. На ней тоже было платье из серебристой парчи, застегнутое сапфиром, и голубой из венецианского бархата контуш. «Должно быть, брат и сестра?» – спрашивали те, кто их не знал. Но другие замечали: «Не может быть, у него слишком блестят глаза, когда он на нее смотрит».
Между тем маршал дал знать, что пора садиться за стол, и в зале поднялось необыкновенное движение. Граф Левенгаупт, весь в кружевах, шел впереди под руку с княгиней, шлейф которой несли два пажа; за ним барон Шитте вел пани Глебович, тут же шли ксендз-епископ Парчевский с ксендзом Белозором; оба были чем-то опечалены. Князь Януш, который в шествии уступал дорогу гостям, но за столом сидел рядом с княгиней на первом месте, вел баронессу Корф, которая уже неделю гостила в Кейданах, Кмициц вел Оленьку, которая слегка опиралась рукой на его руку, а он смотрел сбоку на ее нежное лицо, счастливый, сияющий, чувствующий себя богаче всех собравшихся здесь магнатов, ибо был близок к обладанию величайшим сокровищем. И так шли пары одна за другой, как стоцветный змей, отливавший чешуей.
Гости мерными шагами, при звуках оркестра, вошли в огромную столовую, где столы, в виде подковы, были сервированы на триста персон и гнулись под тяжестью серебра и золота. Князь Януш, родственник стольких королей и сам носивший в себе как бы часть королевского величия, сел рядом с княгиней на первое место, а гости, проходя мимо, кланялись ему низко, а затем садились сообразно сану и званию.
Но, по-видимому, князь (так казалось присутствующим) помнил, что это последний пир перед страшной войной, в которой решится участь огромных государств, так как в лице его не было спокойствия. Он притворялся веселым и улыбающимся, но вид у него был такой, точно его мучит лихорадка. Порой его грозное чело точно заволакивалось тучей, и сидевшие ближе могли заметить, что оно было покрыто крупными каплями пота; порою взор его быстро пробегал по лицам присутствующих и останавливался испытующе на полковниках; то вдруг князь морщил львиные брови, точно от боли или точно чье-либо лицо вдруг возбуждало в нем гнев. И странно: все сановники, сидевшие поблизости от князя, как то: послы, ксендз-епископ Парчевский, ксендз Белозор, пан Коморовский, пан Межеевский, пан Глебович, пан воевода венденский и другие, были так же рассеяны и неспокойны. На двух противоположных концах огромной подковы слышался уже веселый разговор, обычный на пирах, а середина ее угрюмо молчала или шептала что-то изредка или, наконец, обменивалась рассеянными и тревожными взглядами.
Но в этом не было ничего странного, так как ниже сидели полковники и рыцари, которым близость войны угрожала, самое большее, смертью. Легче умереть на войне, чем нести на своих плечах бремя ответственности за нее. Не омрачится душа солдата, когда, искупив кровью грехи свои, отлетает она с поля на небо; только тот тяжко клонит голову и отдает отчет Богу и совести, кто накануне решительного дня не знает, какую чашу даст он испить отчизне.
Так и говорили на нижних концах.
– Он всегда такой: перед каждой войной с душой своей беседует, – говорил старый полковник Станкевич пану Заглобе, – но чем он мрачнее, тем хуже для неприятеля, ибо в день битвы он наверное будет весел.
– Ведь и лев перед битвой рычит, – ответил пан Заглоба, – чтобы возбудить этим в себе еще большую ненависть к врагу. Что же касается великих полководцев, то у каждого из них свой обычай. Аннибал, говорят, играл в кости, Сципион африканский сочинял вирши, пан Конецпольский-отец всегда о женщинах разговаривал, а я охотно люблю поспать часик-другой, хоть и от выпивки с хорошими людьми не сторонюсь.
– Посмотрите, ваць-панове, епископ Парчевский бледен, как бумага, – сказал Станислав Скшетуский.
– Потому что сидит за кальвинистским столом и мог съесть что-нибудь нечистое, – вполголоса объяснил Заглоба. – К напиткам, говорят старые люди, нечистый не имеет доступа, и их можно пить везде, а кушаний, особенно супов, нужно остерегаться. Так было и в Крыму, когда я там был в плену. Татарские муллы – священники, значит, – умели так приготовлять баранину с чесноком, что кто раз пробовал, тот готов был сейчас же отречься от своей веры и признать ихнего вруна-пророка.
Тут Заглоба понизил голос еще больше:
– Не в обиду князю-пану будь сказано, но советую ваць-панам перекрестить кушанье: береженого и Бог бережет.
– Что вы говорите, ваць-пане! Кто перед едой перекрестится, с тем уж нечего не случится! У нас в Великопольше лютеран и кальвинистов тьма-тьмущая, но я не слышал, чтобы они колдовали на кухне.
– У вас в Великопольше лютеран тьма-тьмущая, потому они и снюхались со шведами, – ответил пан Заглоба. – Я бы на месте князя этих послов собаками затравил, а не набивал бы им брюхо всякими сластями. Посмотрите только на этого Левенгаупта. Жрет, точно его через месяц на убой поведут. Он еще в карманы припрячет всякие лакомства для жены и детей. Забыл, как зовут эту вторую заморскую птицу. Как его?
– Спросите, отец, у Михала, – ответил Ян Скшетуский.
Но пан Михал, хотя сидел недалеко, ничего не видел и не слышал: он сидел между двумя паннами; по левую руку сидела панна Эльжбета Селявская, девушка лет около сорока, а по правую Оленька Биллевич, за которой сидел Кмициц. Панна Эльжбета трясла головою, украшенной перьями, перед маленьким рыцарем и рассказывала что-то оживленно, а он, поглядывая на нее время от времени осоловелыми глазами, отвечал: «Так, мосци-панна! Совершенно верно!» – но не понимал ни слова, ибо все его внимание было поглощено другой соседкой. Он ловил каждое слово Оленьки и так шевелил усами, точно хотел этим испугать панну Эльжбету.
«Что за чудная девушка! – думал он. – Ну и красавица! Господи, воззри на мое горе: нет никого на свете сиротливее меня! Душа так и пищит во мне от тоски по суженой, а на кого я ни взгляну, все уже заняты. Куда же мне деться, несчастному скитальцу?»
– А после войны что ваць-пан думает делать? – вдруг спросила его панна Эльжбета, сложив губки бантиком и обмахиваясь веером.
– В монастырь идти! – раздраженно ответил маленький рыцарь.
– А кто это на балу говорит о монастыре? – весело спросил Кмициц, перегибаясь через Оленьку. – Это вы, пане Володыевский?
– У ваць-пана не то на уме? Верю!
Но вот в его ушах зазвенел сладкий голос Оленьки:
– Ваць-пану не нужно об этом думать. Бог пошлет вам жену любимую и столь же достойную, как и ваць-пан!
Добрый пан Михал расчувствовался.
– Если бы кто-нибудь заиграл мне на флейте, мне не было бы приятнее слушать!
Все усиливавшийся шум за столом прервал дальнейший разговор. Дошла очередь и до рюмок. Беседа оживлялась. Полковники спорили о будущей войне, морща брови и бросая огненные взгляды.
Пан Заглоба рассказывал об осаде Збаража, у слушателей кровь бросалась к лицу, а в сердце росло мужество… Казалось, дух бессмертного «Еремы» витал в зале и геройским одушевлением наполнял сердца солдат.
– Вот это был вождь, – воскликнул знаменитый полковник Мирский, командовавший радзивилловскими гусарами. – Я один раз его видел, но и умирая буду его помнить.
– Юпитер с перунами в деснице! – воскликнул старик Станкевич. – Не дошло бы до того, что теперь, будь он жив!
– Ба, ведь это он за Ромнами велел рубить леса, чтобы открыть дорогу к неприятелю!
– Не будь его, мы бы не одержали победы под Берестечком!
– И Бог отнял его у нас в самую тяжелую минуту…
– Бог его отнял, – сказал, возвысив голос, пан Станкевич, – но после него осталось завещание для будущих вождей, сановников и всей Речи Посполитой: ни с одним неприятелем не вести переговоров, а всех бить!
– Бить, бить! – повторило несколько сильных голосов.
В столовой стояла страшная жара и возбуждала кровь в воинах – и вот взгляды их стали как молнии, а лица грозны.
– Наш пан гетман будет исполнителем этого завещания! – сказал Мирский.
Вдруг громадные часы, помещавшиеся у потолка залы, пробили полночь, и в ту же минуту задрожали стены, жалобно зазвенели стекла и грохот салютных выстрелов раскатился по двору. Разговоры умолкли. Настала глубокая тишина. Вдруг в верхней части стола раздался крик:
– Епископу Парчевскому дурно! Воды!
Произошло замешательство. Многие вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, что случилось. Епископ не упал в обморок, а лишь очень ослаб, и маршал поддерживал его, пока жена венденского воеводы прыскала ему в лицо водой.
В эту минуту раздался второй выстрел – дрогнули стекла; за ним третий, четвертый…
– Виват Речь Посполитая! Да погибнут враги ее! – крикнул пан Заглоба. Но дальнейшие выстрелы заглушили его слова.
Шляхта стала считать:
– Десять, одиннадцать, двенадцать.
Стекла каждый раз отвечали жалобным стоном. Пламя свечей колебалось от сотрясения.
– Тринадцать, четырнадцать! Ксендз-епископ не привык к такому грохоту. Он испортил своим испугом веселье. И князь обеспокоился. Посмотрите, мосци-панове, какой он мрачный… Пятнадцать, шестнадцать… Ого, палят как на войне! Девятнадцать, двадцать!
– Тише там! Князь хочет говорить! – раздалось со всех концов стола. Все вдруг смолкло, и глаза всех устремились на Радзивилла, который с бокалом в руке был похож на великана. Но что за зрелище предстало их глазам!
Лицо князя было в эту минуту просто страшно. Оно было не бледное, а синее, искривлено судорожной улыбкой, которую князь старался вызвать на губах. Дыхание его, всегда короткое, стало еще короче, а глаза были полузакрыты ресницами. В его мощном лице было что-то страшное и холодное, как в лице покойника.
– Что с князем? Что с ним? – тревожно шептали вокруг.
И зловещее предчувствие охватило всех: тревожное ожидание отразилось на липах.
А он заговорил прерывающимся от астмы голосом:
– Мосци-панове! Многих из вас… удивит… или просто испугает этот тост… но… кто мне верит… кто поистине желает добра отчизне… кто верный друг моего дома… тот его примет… и повторит: «Да здравствует король Карл-Густав… отныне всемилостивейше царствующий над нами!»
– Да здравствует! – повторили два посла, Левенгаупт и Шитте, и несколько иностранных офицеров.
Но в зале воцарилось глухое молчание. Полковники и шляхта в ужасе переглядывались, точно спрашивая друг друга: не сошел ли князь с ума. Несколько голосов раздалось в разных концах стола:
– Не ослышались ли мы? Что это?
Потом снова наступила тишина.
Невыразимый ужас, соединенный с изумлением, отразился на лицах, и глаза всех снова обратились на Радзивилла – он все еще стоял, тяжело дыша, точно сбросил с себя страшную тяжесть. Потом он обратился к пану Коморовскому и сказал:
– Пора прочесть договор, который мы сегодня подписали, чтобы их милости, паны, знали чего держаться. Читайте, ваць-пане!
Коморовский встал, развернул лежавший перед ним пергамент и стал читать страшный договор, начинающийся словами:
«Не имея возможности лучше и выгоднее поступить в настоящую минуту бедствий и потеряв всякую надежду на помощь его величества короля, мы, сановники и шляхта Великого княжества Литовского, вынужденные необходимостью, отдаемся под покровительство его величества короля шведского на следующих условиях:
1) Вместе воевать против неприятеля, исключая короля и коронных войск.
2) Великое княжество Литовское не будет присоединено к Швеции, а соединится с нею на таких же условиях, как доныне с королевством Польским, то есть чтобы народ народу, сенат сенату и рыцарство рыцарству были во всем равны.
3) Свобода голоса на сеймах никому не должна быть возбраняема.
4) Свобода религии должна быть неприкосновенна…»
И так далее читал пан Коморовский среди тишины и ужаса, пока не дошел до следующего места: «Акт сей, скрепленный подписями нашими, как мы, так и потомки наши обязуемся хранить нерушимо».
По залу пробежал ропот, точно первое дуновенье бури всколыхнуло лес. Но не успела она еще разразиться, как седой как лунь пан Станкевич обратился к князю с речью и мольбой:
– Мосци-князь, мы не верим собственным ушам! Во имя Господа! Неужели должно погибнуть дело рук Владислава и Сигизмунда-Августа? Неужели можно, неужели достойно отрекаться от своих братьев и заключать унию с неприятелем? Мосци-князь! Вспомните о том имени, которое вы носите, и о принесенных на алтарь отчизны заслугах, о незапятнанной славе вашего рода и порвите, растопчите этот позорный документ! Я знаю, что молю вас об этом от имени всей шляхты и войск. Ведь и мы властны решать нашу судьбу! Мосци-князь, не делайте этого! Еще время! Сжальтесь над собой, над нами, сжальтесь над Речью Посполитой!
– Не делайте этого! Сжальтесь! Сжальтесь! – отозвались сотни голосов.
И все полковники вскочили со своих мест и стали подходить к нему, а маститый Станкевич упал на колени посреди залы, и все громче раздавалось вокруг:
– Не делайте этого! Сжальтесь над нами!
Радзивилл поднял свою мощную голову, и глаза его метнули молнии. Вдруг он обрушился:
– Вам ли, мосци-панове, первым давать пример неповиновения? Прилично ли солдатам отступать от вождя и гетмана и протестовать? Вы хотите учить меня, как нужно поступать для блага отчизны? Здесь не сеймик, вас сюда не голосовать позвали. Я перед Богом беру ответственность на себя!
И он ударил себя рукой по широкой груди, глядя пылающими глазами на рыцарей, и наконец крикнул:
– Кто не со мной, тот против меня! Я знал вас, знал, что будет! Но знайте же и вы, что меч висит над вашими головами!
– Мосци-гетман, гетман наш, – молил старик Станкевич, – сжалься над собой и над нами.
Но его слова прервал Станислав Скшетуский. Он, схватившись обеими руками за волосы, закричал с отчаянием:
– Не просите его! Напрасный труд! Он эту змею давно лелеял в своем сердце! Горе тебе, Речь Посполитая! Горе нам всем!
– Два сановника на двух концах Речи Посполитой продают отчизну! – воскликнул пан Ян. – Проклятие этому дому, позор и гнев Божий!
Услышав это, Заглоба очнулся от изумления и гаркнул:
– Спросите его, сколько он отступного получил от шведов? Сколько заплатили, сколько еще обещали? Мосци-панове, это Иуда Искариотский! Чтоб ты издох в отчаянии! Чтоб род твой погиб! Чтоб дьявол душу из тебя вырвал! Изменник! Изменник! Трижды изменник!
Вдруг Станкевич, в порыве отчаяния, выхватил полковницкую булаву из-за пояса и с грохотом бросил ее к ногам князя; вторым бросил Мирский, за ним Юзефович, Гощиц, Оскерко и бледный, как труп, Володыевский. И катились по полу булавы, и в логове льва, льву в глаза все громче повторялось страшное слово: «Изменник!», «Изменник!»
Вся кровь бросилась в голову гордого магната; он посинел и, казалось, вот-вот свалится под стол мертвым.
– Гангоф и Кмициц, ко мне! – крикнул он страшным голосом.