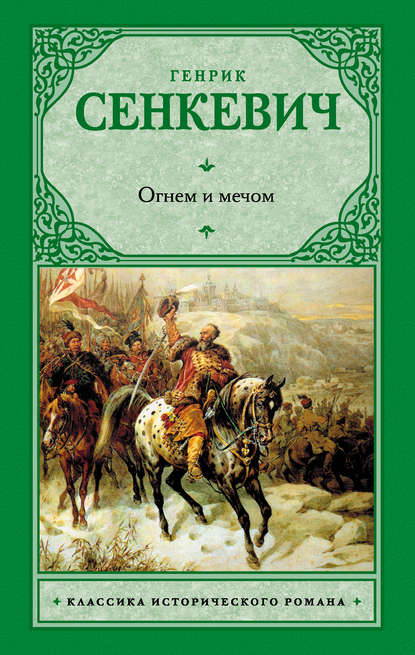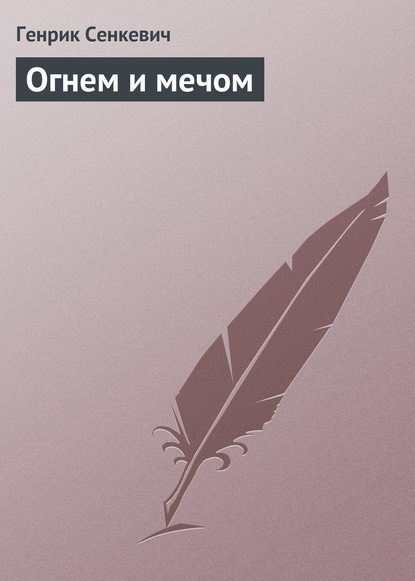полная версия
полная версияПан Володыевский
Он жил только мыслью, что когда насытит свое сердце местью, то будет и спокойнее, и счастливее. Между тем приближалось время, когда он должен был или отомстить, или погибнуть.
Проходили недели за неделями, а они все стояли в этой пустыне и выжидали. За это время они изучили все дороги, все овраги, поля, реки и ручьи, снова захватили несколько стад, истребили несколько небольших партий кочевников и подстерегали неприятеля, как дикий зверь подстерегает свою добычу. Наконец наступила столь долгожданная минута.
Однажды утром они уже издали увидали целые стаи птиц, которые неслись по небу и по земле. Дрофы, кулики, перепела бежали по траве к роще, в выси летели вороны, галки и даже болотные птицы, очевидно, спугнутые с берегов Дуная или с добруджских болот. Увидав это, драгуны переглянулись, и из уст в уста переходили слова: «Идут! Идут!..» Все лица оживились, глаза засверкали, усы зашевелились, и в этом оживлении не видно было ни малейшей тревоги; все это были люди, у которых вся жизнь прошла в схватках с татарами; они чувствовали только то, что чувствуют охотничьи собаки, когда почуют зверя. Костры тотчас были потушены из боязни, что дым может обнаружить присутствие людей в чаще; тотчас были оседланы лошади и весь отряд был готов к походу.
Теперь необходимо было рассчитать время, чтобы напасть на неприятеля именно в ту минуту, когда он будет отдыхать. Нововейский прекрасно понимал, что султанские войска не пойдут сплошной массой, тем более что они еще в пределах своего государства и им не могла даже в голову прийти мысль о какой-нибудь опасности. Он знал, что передовые отряды всегда идут на расстоянии мили или двух от остального войска, и не сомневался, что в авангарде пойдут липки.
Некоторое время он колебался, идти ли ему навстречу тайными и хорошо ему известными дорогами или ждать в кизиловой роще. Он решил ждать, так как из этой чащи удобнее было напасть внезапно. Прошел еще день, потом ночь, и к лесной чаще потянулись не только птицы, но и звери. На следующее утро неприятель уже был виден.
К югу от кизиловой рощи тянулась обширная холмистая равнина, которая терялась на горизонте. На этой равнине и показался неприятель, который быстро шел к Текучу. Драгуны смотрели из-за кустарников на эту чернеющую массу, которая порой то скрывалась из глаз, углубляясь в неровности почвы, то опять появлялась на всем протяжении.
Люсня, у которого были необычайно зоркие глаза, пристально всматривался в эту приближающуюся массу и подошел к Нововейскому.
– Пан комендант, – сказал он, – людей там немного, это только скот выгоняют на пастбище.
– Значит, ночевка их пришлась в миле или двух отсюда?
– Точно так, – ответил Люсня. – Они, видно, идут по ночам, чтобы избежать жары; днем они отдыхают, а лошадей до вечера высылают на пастбище.
– А много там людей около стада?
Люсня опять подошел к краю рощи и долго не возвращался обратно, наконец он появился снова и сказал:
– Лошадей будет тысячи полторы, а людей не более двадцати пяти. Они еще у себя дома и ничего не боятся, а потому и стражи немного.
– А людей ты мог разглядеть?
– Они еще далеко. Но это липки, пан, и они уже наши!
– Да, – сказал Нововейский.
И он был уверен, что ни один человек из них не уйдет. Для такого загонщика, как он, и для таких солдат, как те, которыми он командовал, это была слишком легкая задача.
Между тем конюхи гнали стадо все ближе и ближе. Люсня еще раз вышел на край рощи и еще раз вернулся обратно.
Лицо его сияло от радости.
– Липки, пан комендант, наверно, липки! – прошептал он.
Услыхав это, Нововейский закричал ястребом, и тотчас же отряд драгун углубился в рощу. Там он разделился на две половины: одна из них засела в овраге, чтобы выйти из него уже в тылу у липков и их табуна, а другая образовала полукруг и стала ждать.
Все это совершилось так тихо, что самый чуткий слух не мог бы уловить ни малейшего звука, – не заржала ни одна лошадь, не лязгнула ни одна сабля; даже конского топота не было слышно в траве, которой поросла земля в роще. Казалось, и лошади понимали, что успех нападения зависит от тишины, ибо и они не в первый раз несли такую службу. Из оврага и из рощи слышались только крики ястреба, но все тише, все реже.
Липковское войско остановилось около рощи и разбрелось по равнине. Сам Нововейский стоял теперь у опушки и следил за всеми движениями конюхов. День стоял ясный, близок был полдень; солнце поднялось уже высоко и страшно припекало; лошади подошли к роще. Конюхи подъехали к опушке леса, слезли с лошадей и, пустив их на арканах, в поисках тени и прохлады вошли в чащу и расположились под небольшим тенистым кустарником.
Вскоре вспыхнул костер, а когда сухой хворост истлел и испепелился, конюхи положили на жар половину жеребенка, а сами сели поодаль от костра, в тени.
Некоторые из них растянулись на траве, некоторые, усевшись по-турецки, разговаривали; один из них начал играть на дудке. В роще царила полная тишина, лишь изредка нарушаемая криком ястреба.
Запах горелого мяса дал знать конюхам, что жаркое готово; двое из них вынули его из золы и потащили под тенистый кустарник. Там все уселись в кружок, и, разрезав жаркое на части, стали пожирать с животной прожорливостью полусырые куски, с которых кровь стекала у них по пальцам и по подбородкам.
Затем, напившись кумысу, они некоторое время еще разговаривали, но вскоре головы их отяжелели. В полдень стало еще жарче. Солнечные лучи, проникающие сквозь чащу, бросали на землю светлые, дрожащие блики. Все кругом смолкло; даже ястреба не кричали.
Несколько липков встали и побрели к опушке рощи, чтобы взглянуть на лошадей; остальные же растянулись на земле, словно убитые на поле битвы, и вскоре заснули. Но сон их после того, как они объелись и опились, должно быть, был очень тяжелый и зловещий, то и дело кто-нибудь стонал, кто-нибудь открывал глаза и повторял: «Алла, бисмилла».
Вдруг на опушке рощи раздался какой-то тихий, но страшный звук, точно предсмертное хрипение человека, которого душат, но который не успел даже вскрикнуть.
Слух ли был чуток у конюхов, или какой-то животный инстинкт предупредил их об опасности, или, наконец, смерть дохнула на них своим ледяным дыханием, но все они мигом проснулись и вскочили на ноги.
– Что это такое? Где те, что пошли к лошадям? – начали они спрашивать друг у друга.
Вдруг из-за кизилового куста раздался чей-то голос по-польски:
– Они не вернутся.
И в эту же минуту полтораста человек окружили конюхов, которые пришли в такой ужас, что крик замер у них в груди. Никто даже не успел ухватиться за кинжал. Лавина нападающих сжала их совершенно. Кустарники затряслись от напора человеческих тел, сбившихся в беспорядочную кучу. Слышался только резкий свист или сопение, иной раз стон или хрип, но все это продолжалось одно мгновение.
Потом все утихло.
– Сколько живых? – спросил чей-то голос среди нападающих.
– Пятеро, пан комендант.
– Осмотреть тела, не притаился ли кто, и для верности каждого ножом по горлу, а пленников к костру.
Приказание было исполнено в ту же минуту. Трупы были пригвождены к земле их же собственными ножами; пленников, привязанных к палкам, положили вокруг костра, который развел Люеня.
Пленники смотрели на приготовления и на Люсню блуждающими глазами.
Среди них было три липка из Хрептиева, и они прекрасно знали вахмистра. Он тоже узнал их и сказал:
– Ну, приятели, теперь вам придется петь, а не захотите, пойдете на тот свет с поджаренными подошвами. Я, по старому знакомству, угольков не пожалею.
Сказав это, он подбросил сухих ветвей, которые тотчас же запылали высоким пламенем.
Но пришел Нововейский и стал допрашивать. Из их показаний выяснилось то, о чем отчасти и догадывался молодой поручик; липки и черемисы шли впереди всех ордынцев и всех султанских войск. Вел их Азыя Тугай-беевич, которому и поручили над ними команду. Из-за жары войско шло ночью, днем же оно высылало стадо на пастбище, а само отдыхало. Не было принято никаких мер предосторожности, никто не предполагал, чтобы на них могло напасть какое-нибудь войско не только у прибрежья Прута, по соседству с ордой, но даже вблизи самого Днестра. Они шли с большими удобствами, со стадами, с верблюдами, которые везли шатры старшин. Шатер азиатского мурзы легко узнать по бунчуку, воткнутому поверх палатки, и потому, что около него ставят знамена всех отрядов. Отряд липков остановился на расстоянии одной мили; у них около двух тысяч человек, но часть людей осталась при белгородской орде, которая идет в миле от липковского чамбула. Нововейский расспросил еще про дорогу, которая ведет прямо к чамбулу, расспросил, в каком порядке раскинуты шатры, наконец, принялся расспрашивать о том, что его больше всего интересовало:
– Есть какие-нибудь женщины в палатке? – спросил он.
Липки испугались за собственную шкуру. Те из них, которые прежде служили в Хрептиеве, прекрасно знали, что одна из этих женщин была сестрой Нововейского, а другая его невеста; они поняли, в какое бешенство он придет, когда узнает всю правду.
Его гнев мог прежде всего обрушиться на них, и они начали колебаться, но Люсня тотчас же сказал:
– Пан комендант, подогреем этим собакам подошвы, тогда они скажут!
– Всунь им ноги в уголья! – сказал Нововейский.
– Помилуйте! – воскликнул Ильяшевич, старый хрептиевский липок. – Я скажу все, на что смотрели мои очи.
Люсня вопросительно взглянул на коменданта, не прикажет ли он все же исполнить угрозу, но Нововейский сделал ему знак рукой и обратился к Ильяшевичу:
– Говори, что ты видел?
– Мы не виноваты, пан, – ответил Ильяшевич, – мы начальству повиновались. Мурза наш подарил сестру вашей милости пану Адуровичу, который держал ее в своей палатке. Я ее видел в Кучункаврах, когда она с ведрами за водой ходила. Я ей помогал нести ведра, потому что она была беременна.
– Горе! – шепнул Нововейский.
– А другую панну наш мурза оставил у себя в палатке. Мы ее не часто видели, но не раз слышали, как она кричала; мурза хоть и жил с нею, но каждый день бил ее плетью и топтал ногами…
Губы Нововейского задрожали, и Ильяшевич едва расслышал его вопрос:
– Где они теперь?
– Проданы в Стамбул.
– Кому?
– Мурза сам, верно, не знает. Вышел указ от падишаха, чтобы в лагере не было женщин. Все продавали на базаре, продал и мурза.
Допрос кончился, и около костра воцарилась тишина. С некоторых пор дул горячий южный ветер, раскачивая ветви кизила, которые шумели все сильнее. В воздухе стало душно; на горизонте показалось несколько тучек, темных в середине, а по краям блестящих, как медь.
Нововейский отошел от костра и шел как безумный, сам не сознавая, куда идет. Потом бросился лицом на землю и стал ее царапать ногтями, потом кусать свои руки и хрипел, как умирающий. Его огромное тело судорожно вздрагивало. Так пролежал он несколько часов. Драгуны смотрели на него издали, но никто, даже Люсня, не осмеливался к нему подойти.
Зато, зная, что комендант не рассердится за то, что он не пощадил пленных, страшный вахмистр с врожденной жестокостью набил им травы в рот, чтобы заглушить крики, и зарезал их, как волов. Он пощадил одного только Ильяшевича, предполагая, что он понадобится в качестве проводника. Окончив это дело, он оттащил от костра еще трепетавшие тела и, уложив их рядом, пошел посмотреть на коменданта.
– Если он и сошел с ума, – пробормотал он, – мы того стервеца все же раздобудем.
Прошел полдень, прошли и послеполуденные часы. День уже клонился к закату. Маленькие прежде тучки заняли теперь уже весь небосклон, становились все гуще и темнее, не теряя по краям своего медного блеска. Огромными клубами кружились они, как мельничные жернова вокруг своих осей, наталкиваясь друг на друга, сталкивая друг друга с высоты, спускаясь к земле все ниже и ниже. По временам, подобно хищной птице, налетал ветер, пригибая к земле кизил и поднимая целые тучи листвы, с бешенством уносил их; порой утихал, точно уходил в землю. В такие минуты затишья в клубящихся облаках слышалось какое-то зловещее шипение, шум; казалось, громовые удары готовятся к борьбе и, глухо ворча, разжигают друг в друге бешенство и гнев, прежде чем броситься и ударить на охваченную ужасом землю.
– Буря! Буря идет! – шептали драгуны. Шла буря, становилось все темнее.
Вдруг на востоке, со стороны Днестра, грянул гром и раскатился со страшным грохотом по всему небу; там, у Прута, он замер, но опять раздались его удары над буджакскими степями, и, наконец, загрохотало все небо.
Первые крупные капли дождя упали на высохшую от зноя траву.
В эту минуту перед драгунами появился Нововейский.
– На коней! – крикнул он громовым голосом.
И через несколько минут он уже двинулся во главе ста пятидесяти всадников.
Выехав из рощи, он в том месте, где стоял табун, соединился с другой половиной своего отряда, который сторожил со стороны поля, чтобы ни один из конюхов не пробрался в лагерь. Драгуны в одно мгновение погнали табун вперед и, издав дикий крик, какой издавали обыкновенно татарские конюхи, двинулись вперед, погоняя испуганный табун.
Вахмистр держал на аркане Ильяшевича и кричал ему на ухо, стараясь перекричать громовые раскаты:
– Веди, собака, да прямо, не то горло перережу!
Между тем облака спустились так низко, что почти касались земли. Вдруг, точно из печки, пахнуло жаром: поднялся ураган; вскоре ослепительный свет прорезал мрак. Раздался удар грома, за ним другой, третий, в воздухе послышался запах серы, и снова стало темно. Табун был охвачен ужасом. Лошади, подгоняемые дикими криками драгун, мчались вперед с раздувающимися ноздрями, с развевающимися гривами, почти не касаясь земли; удары грома не умолкали ни на минуту, ветер выл, и среди этого вихря, этой темноты, среди раскатов грома, от которых, казалось, трескалась земля, они мчались, гонимые грозой и мщением, похожие среди пустынной степи на хоровод страшных упырей или злых духов…
Земля убегала у них из-под ног. Они не нуждались и в проводнике, табун несся прямо к лагерю липков, который был все ближе и ближе. Но прежде чем он доскакал, буря разразилась с такой силой, точно обезумели и небо, и земля. Весь горизонт был объят пожаром, и при его блеске драгуны уже издали увидали стоявшие в степи палатки. Земля дрожала от раскатов грома; казалось, клубы туч оборвутся и упадут на землю. И разверзлись хляби небесные, и вся степь сразу была залита потоками дождя. На расстоянии нескольких шагов ничего не было видно, а с раскаленной от дневного жара земли поднимался густой пар. Еще минута, и табун, а за ним и драгуны будут в лагере…
Но табун перед самыми палатками в диком испуге разбежался в разные стороны. Тогда триста всадников издали страшный крик, триста сабель засверкали при свете молний, и драгуны ворвались в палатки.
Липки еще до ливня видели, при блеске молний, бегущее стадо, но никто из них не догадался, какие страшные конюхи гнали его. Они только удивились и встревожились, отчего конюхи гонят стадо прямо к палаткам, и подняли страшный крик, чтобы испугать лошадей. Сам Азыя Тугай-беевич откинул занавес своего шатра и, несмотря на дождь, вышел из палатки с выражением гнева на своем грозном лице. Но именно в эту минуту табун разбежался, и среди потоков дождя и тумана зачернели какие-то страшные фигуры, которых было гораздо больше, чем конюхов, и, как гром, раздался ужасный крик:
– Бей! Режь!
Не было времени подумать даже о том, что случилось, не было времени даже испугаться. Человеческий ураган, еще более яростный и страшный, чем сама буря, обрушился на лагерь. Прежде чем Тугай-беевич успел сделать один шаг к палатке, какая-то нечеловеческая сила подхватила его с земли и он почувствовал, что его сжимают в страшных объятиях, что в этих объятиях трещат его кости, ломаются его ребра; на минуту он, как в тумане, увидел перед собой лицо – и оно было для него страшнее лица самого дьявола… Он лишился сознания.
Между тем началась битва, или, вернее, страшная резня. Буря, темнота, неожиданность нападения и переполох с лошадьми были причиной того, что липки почти совсем не защищались. Они просто обезумели от ужаса. Никто не знал, куда бежать, где спрятаться; многие не были даже вооружены, многих нападение застигло спящими, и, совсем растерявшись, обезумев от страха, они сбивались в густые толпы, толкая, опрокидывая и топча друг друга. Их сшибали с ног лошади, поражали сабли, топтали копыта. И вихрь не так ломает, уничтожает и опустошает молодой бор, волки не вгрызаются так в стадо растерянных овец, как давили и рубили татар драгуны. С одной стороны паника, с другой – бешенство и жажда мести увеличивали размеры поражения. Потоки крови смешались с потоками дождя. Липкам казалось, что небо падает на них, что земля разверзается у них под ногами. Раскаты грома, громовые удары, шум дождя, темнота и буря вторили этой резне. Лошади драгун, охваченные ужасом, бросались, как бешеные, в толпу людей, разрывая ее, топча и устилая землю трупами. Наконец, маленькие группы обратились в бегство, но так растерялись, что кружили вокруг лагеря вместо того, чтобы бежать вперед, и, не раз наталкиваясь друг на друга, подобно двум встречным волнам, опрокидывали друг друга и попадали под мечи поляков. Остатки липков были рассеяны, их догоняли и рубили, не взяв никого в плен. Наконец, звуки труб прекратили погоню.
Никогда еще нападение не было так неожиданно и поражение так ужасно. Триста человек рассеяли на все четыре стороны около двух тысяч отборной конницы, превосходившей своей опытностью обыкновенные чамбулы. Большая часть этой конницы лежала теперь вповалку среди красных луж, образовавшихся от дождя и крови. Остальная часть, благодаря темноте, рассеялась и бежала куда глаза глядят, не зная, не попадет ли опять под мечи. Победителям помогла буря и темнота, словно Божий гнев был на их стороне против изменников.
Была уже глубокая ночь, когда Нововейский во главе своих драгун двинулся в обратный путь к границам Речи Посполитой. Между молодым поручиком и вахмистром Люсней шла лошадь из табуна, на спине которой лежал, связанный веревками, вождь всех липков Азыя Тугай-беевич, без чувств, с переломанными ребрами, но живой.
Оба они ежеминутно глядели на него с таким вниманием и заботливостью, точно везли какое-нибудь сокровище и боялись его уронить.
Буря начинала стихать; по небу носились еще громады туч, но в прорезах между ними уже просвечивали звезды, отражаясь в небольших озерах, образовавшихся в степи от ливня.
Вдали, в стороне Речи Посполитой, время от времени еще слышались раскаты грома.
XIII
Липковские беглецы дали знать о своем поражении орде белгородской, а гонцы передали эту весть из орды в ордуй-гамаюн, то есть в лагерь султана, где она произвела необычайно сильное впечатление. Правду говоря, пану Нововейскому не было никакой надобности так спешить со своей добычей к границам Речи Посполитой – никто за ним не гнался не только в первую минуту, но и в течение следующих двух дней. Султан был поражен до того, что не знал даже, что ему предпринять. Сначала он послал белгородские и добруджские чамбулы узнать, какие войска находятся в окрестностях. Опасаясь за собственную шкуру, они пошли неохотно.
Между тем весть эта, переходя из уст в уста, возросла до необыкновенных размеров. Жителей глубинной Азии и Африки, которым еще никогда не приходилось воевать с Ляхистаном и которые только из рассказов слышали о страшной коннице неверных, обуял страх при мысли, что они вот-вот столкнутся с неприятелем, который не только ждет их в своих границах, но даже ищет их во владениях султана. Сам великий визирь и «восходящее солнце войны» – каймакан Черный Мустафа не знали, что об этом нападении думать. Каким образом эта Речь Посполитая, о бессилии которой у них были совершенно точные сведения, перешла вдруг в наступление, – этого не могла понять ни одна турецкая голова; во всяком случае, поход теперь не казался уже триумфальным шествием, как думали раньше. Султан на военном совете принял и визиря, и каймакана с гневным лицом.
– Вы обманули меня: не так слабы ляхи, если они сами нас ищут. Вы говорили, что Собеский не будет защищать Каменца, а он, верно, сам со всем своим войском перед нами.
Визирь и каймакан пытались было объяснить властелину, что, может быть, это была какая-нибудь шайка разбойников, но так как были найдены мушкеты и мешки с драгунскими колетами, то они и сами не верили этому. Недавний необычайно смелый поход Собеского, увенчавшийся победой, позволял предполагать, что грозный вождь и на этот раз предпочтет напасть на неприятеля врасплох.
– У него нет войска, – говорил великий визирь каймакану, когда они возвращались с военного совета, – но в нем живет лев, не знающий страха; если он собрал хоть полтора десятка тысяч, то нам предстоит кровавый путь в Хотим.
– Я хотел бы с ним помериться, – сказал молодой Кара Мустафа.
– Да отвратит от тебя Аллах это несчастье, – ответил великий визирь. Постепенно белгородские чамбулы убедились, что в окрестностях нет не только больших войск, но нет вообще никаких. Зато отысканы были следы отряда числом около трехсот всадников, который поспешно уходил в сторону Днестра. Ордынцы, помня о судьбе липков, не погнались за ним, боясь засады. Нападение на липков осталось чем-то поразительным и необъяснимым, но мало-помалу в ордуй-гамаюне воцарилось спокойствие, и войска падишаха опять двинулись в поход.
Между тем Нововейский совершенно безопасно возвращался со своей добычей в Рашков. Возвращался он поспешно, но опытные загонщики уже на другой день убедились, что за ними погони нет, и поэтому, несмотря на поспешность, шли так, чтобы не очень утомлять лошадей. Азыя, привязанный веревками к спине татарской лошади, все время ехал между Нововейским и Люсней. У него были сломаны два ребра, и он ослаб от борьбы с Нововейским и оттого, что у него вскрылись раны, нанесенные Басей, поэтому страшный вахмистр, боясь, чтобы он не умер по дороге в Рашков и тем самым не сделал месть неосуществимой, должен был заботиться о нем всю дорогу. Молодой татарин, зная, что его ждет, жаждал смерти. Прежде всего он решил уморить себя голодом и не хотел принимать пищи, но Люсня раздвигал ему ножом челюсти и насильно вливал ему в рот водку и молдавское вино с растертыми в порошок сухарями. На каждой стоянке он обливал его водой, боясь, как бы раны на глазу и на носу, которые облепляли мухи, не загноились и не были причиной преждевременной смерти несчастного юноши. Нововейский ни слова не говорил с ним, только раз в самом начале дороги, когда Азыя за свою свободу и жизнь обещал ему вернуть Зосю и Эвку, поручик сказал ему:
– Лжешь, пес! Ты продал обеих в Стамбул купцу, который перепродаст их там на базаре.
И сейчас же к нему привели Ильяшевича, и он в присутствии всех повторил:
– Да, эфенди, ты продал ее и сам не знаешь кому, а Адурович продал сестру богатыря, хотя она была от него беременна…
Азые минуту казалось, что после этих слов Нововейский раздавит его в своих страшных руках, и потому, когда он увидел, что для него уже нет спасенья, он решил довести молодого великана до того, чтобы он в пылу гнева сразу покончил с ним и тем избавил его от предстоящих мук, а так как Нововейский, не спуская с него глаз, все время ехал около него, то Азыя самым ужасным и бесстыдным образом стал хвастаться всем, что он сделал. Он рассказывал ему, как зарезал его отца, как взял к себе Зосю Боскую, как наслаждался ее невинностью, как истязал ее тело плетью и топтал ее ногами. По бледному лицу Нововейского пот катился градом; он слушал, и у него не хватало ни сил, ни воли отъехать, он жадно вслушивался в каждое слово, хотя руки его дрожали, хотя все тело судорожно подергивалось, но он владел собой и не убивал его.
Впрочем, Азыя, терзая врага, терзался и сам; его рассказы напоминали ему о его теперешнем несчастье. Еще недавно он повелевал, жил в роскоши, был любимцем молодого каймакана, а теперь ехал, привязанный к спине лошади, заживо съедаемый мухами, ехал на страшную смерть. Для него было облегчением, когда от ран, от боли, от утомления он терял сознание. Это случалось все чаще и чаще, так что Люсня стал беспокоиться, довезет ли он его живым. Но они ехали днем и ночью, останавливаясь лишь для того, чтобы дать отдых лошадям, и Рашков был все ближе. Живучая душа татарина не хотела покинуть его измученное тело. Кроме того, в последние дни Азыя заболел лихорадкой и постоянно впадал в глубокий сон. Не раз в бреду или во сне ему представлялось, что он все еще в Хрептиеве, что вместе с Володыевским он собирается на войну; то казалось ему, что он провожает Басю в Рашков, что он похитил ее и держит в своей палатке; иногда в бреду ему грезились битвы, и он отдавал приказания уже как гетман польских татар. Но наступало пробуждение, возвращалось сознание, и тогда, открыв глаза, он видел лицо Нововейского, Люсни, шлемы драгун, которые уже сбросили татарские барашковые шапки, и всю эту действительность, столь ужасную, что она казалась ему кошмаром. Каждое движение лошади причиняло ему невыносимую боль; раны горели, и он лишался чувств. Были минуты, когда ему казалось невероятным, что он, такой жалкий человек, – не кто иной, как Азыя, сын Тугай-бея, что его жизнь, полная необыкновенных приключений, которые, казалось, предсказывали ему великую будущность, кончается так быстро и так ужасно. Порой ему приходило в голову, что сейчас после пыток и смерти он пойдет в рай, но так как он некогда исповедовал христианскую веру и долго жил среди христиан, то при мысли о Христе им овладевал страх. Христос не окажет ему никакого милосердия, а если бы пророк был сильнее Христа, то он не отдал бы его в руки Нововейского. Может быть, пророк окажет ему милосердие и возьмет его душу, прежде чем его предадут пыткам. А между тем Рашков был уже недалеко. Они въехали в скалистую местность, уже поблизости Днестра. К вечеру Азыя впал в полугорячечное, в полусознательное состояние, в котором видения смешивались с действительностью. И ему казалось, что они уже приехали, что они остановились, что он слышит вокруг себя восклицания: «Рашков! Рашков!» Потом ему казалось, что он слышит стук топоров по дереву.