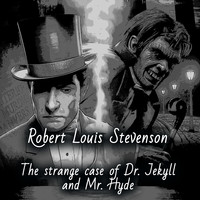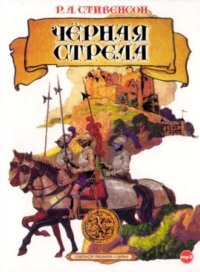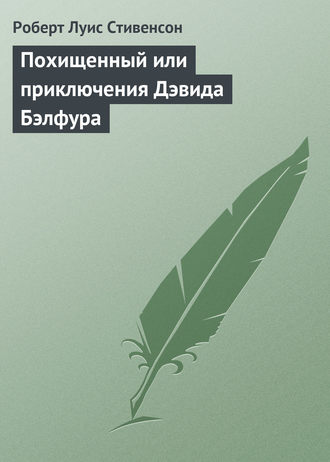 полная версия
полная версияПохищенный
Правду говоря, Алан вел себя, как ребенок, вернее – что еще хуже, – как вероломный ребенок. Выманить у меня деньги, когда я лежал почти без сознания, было немногим лучше кражи. А между тем он шагал рядом со мной, не имея ни гроша за душой и, как мне казалось, вполне довольный, что мог жить на деньги, которые он заставил меня принять как милостыню. Правда, я готов был поделиться ими с ним, но меня бесило, что он так уж рассчитывает на меня.
Вот какие мысли одолевали меня, но я не мог высказать их вслух, потому что это было бы невеликодушно. Однако я поступил хуже: не обмениваясь ни словом с моим товарищем, я только искоса посматривал на него.
Наконец на другой стороне Лох-Эррохта, когда мы достигли ровной, заросшей камышом земли, где идти было легко, Алан не мог больше выдержать и подошел ко мне.
– Давид, – сказал он, – друзья должны иначе относиться к таким пустякам. Сознаюсь, я очень жалею о том, что случилось. А если ты имеешь что-нибудь против меня, то лучше скажи.
– О, – сказал я, – я ничего против вас не имею.
Он, казалось, растерялся, а я подло обрадовался этому.
– Нет? – сказал Алан чуть дрожащим голосом. – А если я сознаюсь, что был виноват?
– Разумеется, вы были виноваты, – ответил я холодно, – и ведь вам известно, что я никогда не упрекал вас.
– Никогда, – согласился он, – но ты отлично знаешь, что поступал гораздо хуже. Ты хочешь расстаться со мной? Раньше ты этого хотел. Хочешь ли и сейчас? Между этим местом и морем достаточно холмов и вереска, Давид. И я должен сознаться, что не особенно желаю оставаться там, где во мне не нуждаются.
Эти слова задели меня за живое, и я дал волю своему двоедушию.
– Алан Брек, – воскликнул я, – неужели вы думаете, что я отвернусь от вас в минуту крайней нужды?! Не смейте говорить мне этого! Все мое поведение доказывает несправедливость ваших слов. Правда, я уснул на болоте, но это случилось от усталости, и вы несправедливо упрекаете меня в этом.
– Я никогда не упрекал тебя, – сказал Алан.
– Что я сделал такого, – продолжал я, – что бы дало вам право унижать меня своим предположением? Я никогда не изменял друзьям и едва ли начну с вас. Нас связывает многое, чего я никогда не забуду, даже если забудете вы.
– Выслушай только одно, Давид, – сказал Алан очень спокойно. – Я давно обязан тебе спасением моей жизни, а теперь ты еще дал мне денег. Тебе следовало бы постараться облегчить мне это время.
Эти слова должны были бы тронуть меня; они в самом деле подействовали на меня, но в обратном смысле. Я чувствовал, что поступаю дурно, и теперь был зол не только на Алана, но и на самого себя; вот это сознание делало меня еще более жестоким.
– Вы просили меня высказаться, – сказал я. – Хорошо, я выскажусь. Вы сами сознаете, что оказали мне дурную услугу. Мне пришлось перенести бесчестие, но я ни разу не упрекнул вас, я ни разу не заговаривал об этом, пока вы не начали сами. А теперь вы осуждаете меня, – почти закричал я, – за то, что я не могу смеяться и петь, точно я должен радоваться своему унижению! Скоро вы захотите, чтобы я встал на колени и благодарил вас! Вам следовало бы больше думать о других, Алан Брек. Если бы вы думали о других, вы, может быть, меньше говорили бы о себе. И когда преданный друг подвергается из-за вас оскорблению без единого слова упрека, вы должны радоваться и оставить его в покое, а не укорять его. Вы сами признались, что были виноваты, – в таком случае не вам бы искать ссоры.
– Довольно, – сказал Алан, – я слышал достаточно.
И мы по-прежнему молча пошли дальше. Дойдя до остановки, мы поужинали и легли спать, тоже не говоря ни слова.
На следующий день, когда стало смеркаться, мы переправились через Лох-Раннох с помощью слуги, который давал нам советы, какого пути нам лучше держаться. Он предложил тотчас же подняться в горы, обойти окружным путем вершины Глэн-Лайон, Глэи-Лохай и Глэн-Дохарт и спуститься в Лоулэнд у Киппена и верховьев Форта. Алану не особенно нравился этот путь, пролегавший через страну его кровных врагов – гленорхских Кемпбеллов. Он говорил, что, повернув к востоку, мы почти сейчас же попали бы в страну атольских Стюартов – членов рода одного с ними имени и происхождения, хотя подчинявшегося другому вождю, и, кроме того, добрались бы более легким и коротким путем до места нашего назначения. Но слуга, бывший у Клюни главным разведчиком, по всем пунктам разбил Алана, указав на численность войск в каждом округе, и в конце концов доказал, насколько я мог понять, что нигде нам не будет спокойнее, чем в стране Кемпбеллов.
Алан наконец уступил, хотя не особенно охотно.
– Это одно из сквернейших мест в Шотландии, – сказал он. – Насколько мне известно, там ничего нет, кроме вереска, ворон и Кемпбеллов. Но я вижу, что вы человек довольно проницательный, и потому пусть будет по-вашему.
Итак, мы отправились по указанному пути и почти целых три ночи скитались по диким горам и среди истоков горных речек. Часто мы брели в тумане; почти постоянно дул ветер, лил дождь, и ни разу нас не порадовал хотя бы один луч солнца. Днем мы спали в мокром вереске; ночью без отдыха карабкались по головокружительной крутизне, между нагромождениями утесов. Мы часто плутали, часто вынуждены были останавливаться и ждать, когда рассеется туман. Об огне нечего было и думать. Единственной нашей пищей служил драммах и кусок холодного мяса, который мы захватили из Клетки; что же касается питья, то, слава богу, в воде у нас не было недостатка.
Это было для нас ужасное время: отвратительная погода и угрюмый характер местности, по которой мы шли, делали наше положение еще более тяжелым. Мне постоянно было холодно, зубы у меня стучали, горло сильно болело, так же как на острове, а в боку беспрерывно и мучительно кололо. Когда я спал на своей мокрой постели, в то время как дождь лил сверху, а подо мной медленно сочилась грязь, я в воображении переживал худшие минуты своих приключений. Мне представлялась башня в Шоосе, освещенная молнией; Рэнсом, которого несут на руках матросы; Шуэн, который умирает на полу капитанской каюты; Колин Кемпбелл, который старается расстегнуть свою одежду. От такого тревожного сна я пробуждался во мраке, для того чтобы сидеть в той же грязи и ужинать холодным драммахом. Дождь хлестал мне в лицо или ледяными струйками сбегал по спине, а туман стоял вокруг нас, точно стена. Когда же дул ветер, внезапно рассеивая мглу, перед нами открывалась пропасть, в темной глубине которой громко бурлили ручьи.
Шум бесчисленных рек слышался повсюду. От непрекращающегося дождя все горные ключи разлились; долины наполнились водой, точно водоемы; в каждом потоке вода высоко вздымалась, переполняла русло и выступала из берегов. Во время наших ночных переходов мы слышали торжественные голоса воды в долинах, напоминавшие то удары грома, то гневные крики. Я вспоминал тогда «водяного духа» – демона потоков, – про которого говорится в сказках, что он рыдает и ревет у брода, пока не приблизится к нему обреченный на гибель путник. Мне кажется, что Алан верил этому или наполовину верил. И когда шум реки становился громче обыкновенного, я с удивлением замечал, что он крестится католическим крестом.
В продолжение этих ужасных странствий мы с Аланом редко говорили друг с другом. Правда, я чувствовал, что смерть моя близка, и это могло служить мне лучшим извинением. Но, помимо всего прочего, я от рождения не умел прощать. Я не обижался из-за пустяков, но зато долго не мог забыть оскорбления. Теперь же я злился как на своего товарища, так и на самого себя. В продолжение этих двух дней он был очень внимателен ко мне, и хотя молчал, но постоянно был готов прийти мне на помощь, видимо надеясь, что моя досада пройдет. В течение того же времени я неизменно разжигал в себе злобу, грубо отказывался от услуг Алана и обращал на него столько же внимания, сколько на какой-нибудь куст или камень.
Во вторую ночь или, скорее, на рассвете третьего дня мы очутились на таком открытом склоне, что не могли выполнить своего обычного плана, то есть немедленно поесть и лечь спать. Прежде чем мы достигли защищенного места, предрассветные сумерки значительно рассеялись, и, хотя продолжал идти дождь, тумана уже не было. Алан, взглянув на меня, принял озабоченный вид.
– Ты бы лучше отдал мне свою поклажу, – сказал он чуть ли не в десятый раз с тех пор, как мы расстались с разведчиком у Лох-Раиноха.
– Я отлично себя чувствую, благодарю вас, – ответил я ледяным тоном.
Алан сильно покраснел и сказал:
– Я больше тебе не буду это предлагать, Давид. Я не отличаюсь терпением.
– Я никогда не говорил, что вы этим отличаетесь, – ответил я. Это был грубый и глупый ответ ребенка.
Алан промолчал. Но по его поведению я понял, что, вероятно, с той минуты он простил себе проступок у Клюни; он снова загнул свою шляпу и пошел, весело насвистывая песни и посматривая искоса на меня с вызывающей улыбкой.
На третью ночь мы должны были пересечь на западе землю Бальуйддер. Ночь стояла ясная и холодная, в воздухе чувствовался мороз, и дул северный ветер, разгонявший тучи и отрывавший звезды. Ручьи по-прежнему были переполнены и громко шумели среди холмов, но я заметил, что Алан не думает больше о «водяном духе» и находится в прекрасном настроении. Для меня же перемена погоды наступила слишком поздно. Я был смертельно болен, весь дрожал, и на мне не оставалось живого места; ветер пронизывал меня насквозь, и свист его оглушал меня. В таком несчастном положении я должен был выносить колкие замечания моего товарища. Он говорил много и всегда язвительным тоном, называя меня не иначе, как «виг».
– Вот, – говорил он, – вам прекрасный случай прыгнуть, любезный виг. Я знаю, что вы славно прыгаете! – и так далее.
Все это говорилось с издевкой и с крайне насмешливым видом.
Я знал, что сам нарвался на такое обращение, но чувствовал себя слишком несчастным, чтобы в чем-нибудь каяться. Я сознавал, что мне недолго оставалось волочить ноги по земле: я лягу и умру на этих мокрых вершинах, как овца или лисица, и кости мои будут белеть, как кости животного. Может быть, в этом было много ребяческого, но мне начинала нравиться эта мысль: я стал гордиться тем, что умру одиноко в пустыне и дикие орлы будут кружить надо мной в мои последние минуты. «Алан тогда раскается, – думал я. – Когда я умру, он вспомнит, скольким обязан был мне, и это воспоминание превратится для него в пытку». Итак, я шел, как глупый, больной, бессердечный школьник, разжигая в себе злобу к товарищу, тогда как мне следовало бы упасть на колени и молить бога о прощении. И насмешки Алана радовали меня. «А, – думал я, – у меня для тебя наготове еще лучший ответ: когда я буду лежать мертвым, моя смерть будет тебе пощечиной. Какая месть! Да, ты будешь жалеть о своей неблагодарности и жестокости».
Между тем мне становилось все хуже и хуже. Один раз я даже не выдержал и упал, потому что ноги мои уже заплетались, и это поразило Алана. Но я быстро встал и продолжал свой путь как ни в чем не бывало, так что он скоро забыл про этот случай.
Меня бросало то в жар, то в озноб, и почти невыносимо кололо в боку. Наконец я почувствовал, что не могу больше тащиться дальше, но вместе с тем у меня внезапно явилось желание дать выход моей злобе, излить ее на Алана и поскорее покончить с жизнью. Он только что назвал меня «вигом». Я остановился.
– Мистер Стюарт, – сказал я голосом, дрожавшим, как струна, – вы старше меня и должны были бы знать, что такое хорошие манеры. Неужели вы считаете остроумным попрекать меня моими политическими убеждениями? Я думал, что если джентльмены ссорятся, то делают это вежливо. Если бы я не думал так, то сумел бы не хуже вас посмеяться над вами.
Алан остановился передо мной, склонив голову набок. Его шляпа была загнута, руки в карманах. Он слушал со злой улыбкой, которую я разглядел при свете звезд. И когда я замолчал, он начал насвистывать якобитскую песню, сочиненную в насмешку над поражением генерала Кона при Престонпансе.
Эй, Джонни Кон, ты еще идешь?
Барабаны твои еще бьют?
Мне пришло в голову, что в день этой битвы Алан сражался на стороне моего короля.
– Зачем вы насвистываете эту песню, мистер Стюарт? – спросил я. – Для того ли, чтобы напомнить мне, что вы терпели поражение на обеих сторонах?
Песня замерла на губах Алана.
– Давид! – сказал он.
– Пора с этим покончить, – продолжал я, – я хочу сказать, что вы впредь должны учтиво выражаться о моем короле и о моих добрых друзьях Кемпбеллах.
– Я Стюарт…
– О, – сказал я, – знаю, что вы носите королевское имя. Но вы должны помнить, что с тех пор, как я нахожусь в Гайлэнде, я видел много людей, которые носят его. И лучшее, что я могу сказать об этих людях, – это то, что им не мешало бы помыться.
– Понимаешь ли ты, что оскорбляешь меня? – спросил Алан очень тихо.
– Очень жаль, – возразил я, – потому что я еще не все сказал! Если вам не нравится моя отповедь, то еще менее понравится ее заключительная часть. За вами гнались в поле взрослые люди из моей партии, а вы мстите несовершеннолетнему. Я считаю это низким. Вас били и виги, и Кемпбеллы… Вы удирали от них как заяц. Вам подобает с уважением говорить о них.
Алан стоял неподвижно, и только концы его плаща хлопали по ветру за его спиной.
– Жаль, – сказал он наконец. – Есть вещи, которые нельзя оставлять без внимания.
– Я никогда не просил вас об этом, – сказал я. – Я так же готов, как и вы.
– Готов? – спросил он.
– Готов, – повторил я. – Я не флюгарка и не хвастун, как некоторые мои знакомые. Вперед! – И, вынув шпагу, я стал в позицию, как учил меня сам же Алан.
– Давид! – закричал он. – Ты с ума сошел! Я не могу драться с тобой, Давид. Это будет убийство!
– Вы это имели в виду, когда оскорбляли меня? – сказал я.
– Это правда! – воскликнул Алан и с минуту стоял, теребя рукою губы, как человек в сильном затруднении. – Это чистая правда, – повторил он и вынул шпагу. Но, прежде чем я смог дотронуться своей шпагой до ее лезвия, он отбросил ее и упал на землю. – Нет, нет, – повторял он, – не могу, не могу…
Тут исчезли последние остатки моей злобы, и я почувствовал себя только больным, несчастным, побежденным. Я едва понимал, что делаю. Я готов был отдать весь мир, чтобы вернуть свои слова обратно. Но когда слово сказано, как поймать его обратно? Я вспомнил прежнюю доброту и мужество Алана, вспомнил, как он терпеливо помогал мне и ободрял меня в самые тяжелые дни. Затем вспомнил, как я оскорблял его и понял, что навеки потерял своего отважного друга. В то же время болезнь, мучившая меня, словно удвоилась, и колоть в боку стало сильней. Мне казалось, что я лишаюсь чувств.
Тут я понял и другое: никакие извинения не могли уничтожить того, что было сказано. Напрасно было надеяться – ничто не могло смыть оскорбления. Но там, где извинения были напрасны, крик о помощи мог вернуть мне Алана. Я забыл на минуту свое самолюбие.
– Алан, – прошептал я, – если вы не сможете мне помочь, мне придется умереть здесь.
Он вскочил и посмотрел на меня.
– Это правда, – повторил я, – я умираю. Отведите меня под какой-нибудь кров, мне легче будет умереть.
Мне не было надобности притворяться. Без всякого желания с моей стороны я говорил со слезами в голосе, который мог бы разжалобить даже каменное сердце.
– Можешь ты идти? – спросил Алан.
– Нет, – отвечал я, – не могу без вашей помощи. В последнее время у меня подкашиваются ноги; в боку колет, как раскаленным железом; я не могу свободно дышать. Если я умру, простите ли вы мне, Алан? В душе я вас очень любил даже в минуты злобы.
– Тсс… тсс! – воскликнул Алан. – Не говори этого! Давид, милый, ты знаешь… – Рыдания заглушили его слова. – Дай я обниму тебя! – продолжал он. – Вот так! Теперь покрепче опирайся на меня. Бог знает, где тут дом! Мы теперь в Бальуйддере. Тут должны быть дома, и даже дружеские дома. Легче тебе так идти, Дэви?
– Да, так я могу идти, – ответил я и пожал ему руку. Он опять чуть не разрыдался.
– Дэви, – сказал он, – я дурной человек: у меня нет ни ума, ни доброты. Я забыл, что ты еще ребенок, я не замечал, что ты умираешь на ходу. Дэви, тебе надо постараться простить меня.
– О Алан, не будем говорить об этом! – сказал я. – Нам нечего стараться исправить друг друга – вот что верно! Мы должны только терпеть и щадить один другого, Алан! О, как болит мой бок! Нет здесь жилища?
– Я найду тебе жилище, Давид, – утешал он меня. – Мы пройдем вдоль ручья, где должно быть жилье. Бедный мой мальчик, не лучше ли будет, если я понесу тебя на спине?
– О Алан, – ответил я, – ведь я дюймов на двенадцать выше вас!
– Вовсе нет! – воскликнул Алан порывисто. – Ты, может быть, выше на безделицу, на один или на два дюйма… Конечно, я не уверяю, что я великан! Впрочем, теперь, когда я сообразил, – прибавил он, и голос его смешно изменился, – я думаю, что ты, может быть, близок к истине. Может быть, ты выше меня на локоть или даже больше!
Было и приятно и смешно слышать, как Алан отказывался от своих слов из боязни новой ссоры. Я бы рассмеялся, если бы в боку у меня не так кололо, но если бы я рассмеялся, то, я думаю, мне пришлось бы и заплакать.
– Алан, – воскликнул я, – отчего ты так добр ко мне? Отчего ты заботишься о таком неблагодарном друге?
– Право, я сам не знаю, – ответил Алан, – я именно и любил в тебе то, что ты никогда не ссорился, но теперь я люблю тебя еще больше!
XXV. В Бальуйддере
У двери первого дома, к которому мы подошли, Алан постучался, что было не особенно осторожно в такой части Гайлэнда, как склоны Бальуйддера. Здесь властвовал не один большой клан, а несколько мелких рассеянных родов, которые оспаривали друг у друга землю. Это был, что называется, «безначальный народ», вытесненный в дикую местность, у истоков Форта и Тейса, наступлением Кемпбеллов. Здесь были Стюарты и Мак-Ларены, что было одно и то же, так как Мак-Ларены на войне подчинялись вождю Алана и составляли с Аппином один клан. Здесь были также многие из старого, объявленного вне закона, кровавого клана Мак-Грегоров. Они всегда имели дурную репутацию, теперь более, чем когда-либо, и не пользовались доверием ни одной партии во всей Шотландии. Глава их – Мак-Грегор из Мак-Грегора – находился в изгнании; более непосредственный предводитель части их, рассеянной около Бальуйддера, Джемс Мор, старший сын Роб-Роя, в ожидании суда был заключен в Эдинбургский замок. Они были во вражде с гайлэндерами и лоулэндерами, с Грэмами, Мак-Ларенами и Стюартами. Поэтому Алан предпочитал избегать их.
Случай нам помог. Мы попали в дом Мак-Ларенов, где Алана были рады принять не только ради его имени, но также и благодаря слухам, которые дошли о нем сюда. Меня немедленно уложили в постель и послали за доктором, который нашел меня в печальном состоянии. Но оттого ли, что он был хорошим врачом, или потому, что я был молод и силен, я пролежал в постели не дольше недели и вскоре мог уже с легким сердцем продолжать путь.
Все это время Алан не покидал меня, хотя я часто упрашивал его уйти. Оставаясь здесь, он своею безрассудной смелостью возбуждал постоянное удивление двух или трех друзей, посвященных в его тайну. Днем он прятался в пещере на горном склоне, поросшем небольшим лесом, а ночью, если путь был свободен, приходил в дом навещать меня. Нечего и говорить, как я радовался, видя его. Миссис Мак-Ларен, наша хозяйка, находила все недостаточно хорошим для такого дорогого гостя. А так как у Дункана Ду – так звали нашего хозяина – были две флейты и сам он очень любил музыку, то время моего выздоровления стало настоящим праздником, и мы часто обращали ночь в день.
Солдаты не докучали нам. Однажды, впрочем, в глубине долины прошла партия, состоявшая из двух рот и нескольких драгунов; я видел их в окно, лежа в постели. Гораздо удивительнее было то, что ко мне не приходил никто из должностных лиц, и мне не задавали вопросов, откуда и куда я иду. В это беспокойное время я не подвергался допросам, точно жил в пустыне. А между тем мое присутствие здесь было известно всем жителям Бальуйддера и окрестностей, так как многие приходили в гости к моим хозяевам, а потом, по обычаю страны, сообщали эту новость соседям. Объявления тоже уже были напечатаны. Одно из них было приколото булавкой к ногам моей постели, и я прочитал не очень лестное описание моей особы, а также написанную более крупным шрифтом сумму, обещанную за мою голову. Дункан Ду и все, кто знал, что я пришел вместе с Аланом, не могли сомневаться в том, кто я. Да и многие другие могли возыметь подозрения, хоть я и переменил одежду, но не мог переменить лета и наружность, а восемнадцатилетние мальчики из Лоулэнда не так часто встречались в этом месте и особенно в такое время. Легко было сообразить, в чем дело, приняв во внимание объявление. Но ничего подобного не случилось. У иных людей тайна хранится между двумя или тремя близкими друзьями и все-таки каким-то образом становится известной, но у гайлэндеров ее сообщали целому народу и хранили веками.
Один только случай заслуживает упоминания о том, как меня посетил Робин Ойг, один из сыновей знаменитого Роб-Роя. Его повсюду искали, так как его обвиняли в похищении молодой женщины из Бальфрона, на которой он, как утверждали, насильно женился, а между тем он разгуливал в Бальуйддере, как джентльмен в своем обнесенном стенами парке. Это он подстрелил Джемса Мак-Ларена, и распря между ними никогда не прекращалась, но все-таки он вошел в дом своих кровных врагов без страха, как путешественник в общественную гостиницу.
Дункан успел сказать мне, кто он, и мы с беспокойством переглянулись. Надо сказать, что вскоре должен был прийти Алан, и вряд ли два эти человека могли поладить. А между тем, если бы мы послали Алану извещение или подали сигнал, мы, наверное, возбудили бы подозрение такого мрачного человека, как Мак-Грегор.
Он вошел очень вежливо, но держал себя, как с низшими: сиял шляпу перед миссис Мак-Ларен, но снова надел ее на голову, разговаривая с Дунканом; и, установив таким образом подобающие отношения, как он думал, с моими хозяевами, Мак-Грегор подошел к моей постели и поклонился.
– Мне сказали, сэр, – заговорил он, – что ваше имя Бальфур.
– Меня зовут Давид Бальфур, – ответил я, – к вашим услугам.
– Я в ответ мог бы вам назвать свое имя, сэр, – продолжал он, – но оно за последнее время несколько утратило значение. Может быть, достаточно будет сказать вам, что я родной брат Джемса Мора Друммоида, или Мак-Грегора, о котором вы не могли не слышать.
– Да, сэр, – сказал я немного испуганно, – но я также не мог не слышать о вашем отце, Мак-Грегоре Кемпбелле.
Я поднялся на постели и поклонился. Я думал, что это польстит ему, если он гордится отцом, лишенным покровительства законов.
Он поклонился в ответ и продолжал:
– Вот что я хочу вам сказать, сэр. В сорок пятом году мой брат поднял часть рода Грегора и повел шесть рот, чтобы нанести решительный удар неправой стороне. Врач, шедший с нашим кланом и вылечивший ногу моему брату, когда тот сломал ее в схватке при Престонпансе, носил то же имя, что и вы. Он был братом Бальфура из Байса, и если только вы находитесь в какой-нибудь степени родства с этим джентльменом, то я отдаю себя и свой парод в ваше распоряжение.
Надо напомнить читателю, что я о своем происхождении знал не больше, чем какая-нибудь собака. Хотя мой дядя и болтал о нашем важном родстве, но ничего не объяснил точно, и у меня сейчас не оставалось другого выхода, как позорно признаться в своем невежестве.
Робин коротко ответил, что ему остается пожалеть, что он побеспокоился, повернулся ко мне спиной и, не поклонившись, направился к двери. Я слышал, как он сказал Дункану, что я не более как «безродный негодяй, не знавший собственного отца». Как я ни сердился на эти слова, стыдясь в то же время собственного незнания, я едва мог удержаться от улыбки при мысли, что человек, находившийся вне закона (и которого действительно через три года повесили), был взыскателен к происхождению своих знакомых.
У самой двери Робин встретил входящего Алана, и оба они, отступив, посмотрели друг на друга, как две чужие собаки. Оба были невелики ростом, но в эту минуту они точно вытянулись от сознания собственного достоинства. Каждый из них движением бедра высвободил эфес своей шпаги, чтобы можно было скорее вытащить клинок.
– Мистер Стюарт, если не ошибаюсь? – сказал Робин.
– Верно, мистер Мак-Грегор: это имя, которого нечего стыдиться, – отвечал Алан.
– Я не знал, что вы в моей стране, сэр, – сказал Робин.
– Я предполагаю, что я в стране моих друзей, Мак-Ларенов, – сказал Алан.
– Это щекотливый вопрос, – отвечал тот. – На это можно и возразить кое-что. Но, кажется, я слышал, что вы умеете биться на шпагах?
– Если вы только не родились глухим, мистер Мак-Грегор, то вы слышали обо мне гораздо больше, – сказал Алан. – Я не один в Аппине умею обращаться с оружием. И когда мой родственник и вождь Ардшиль несколько лет тому назад разрешал спор с джентльменом, носившим ваше имя, я не помню, чтобы Мак-Грегор одержал верх.