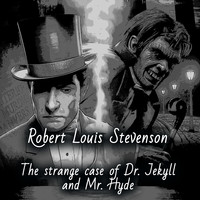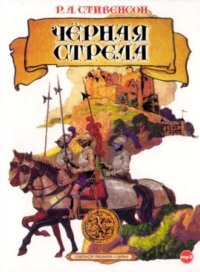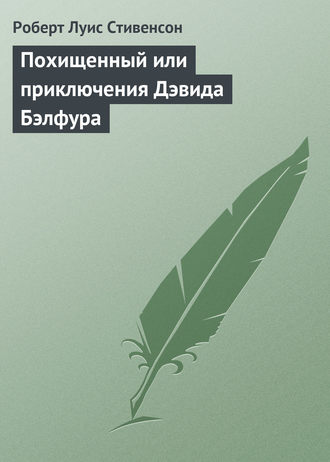 полная версия
полная версияПохищенный
Солдаты весь день расхаживали в долине, то сменяя караул, то осматривая скалы. Но скал было крутом такое множество, что искать между ними людей было так же легко, как иголку в охапке сена. Понимая, что это дело бесполезное, солдаты занимались им без особого старания. Однако мы видели, как они иногда погружали в вереск штыки, и я чувствовал холодную дрожь во всем теле. Иногда они подолгу не отходили от нашей скалы, и мы едва смели дышать.
Вот при каких обстоятельствах я в первый раз услышал настоящую английскую речь.
Один солдат, проходя мимо, дотронулся до нашей скалы на солнечной стороне и тотчас с ругательством отдернул руку.
– И накалилась же она, скажу вам! – воскликнул он.
Меня удивили краткие звуки и скучное однообразие его речи, а также странная манера выдыхать букву «h». Правда, я слыхал, как говорил Рэнсом, но он заимствовал свой говор от разного люда, и я большей частью приписывал недостатки его речи детскому возрасту. Поэтому я так удивился, услышав ту же особенность разговора в устах взрослого человека. Действительно, я никогда не мог привыкнуть как к английскому произношению, так и к английской грамматике, что очень строгий критик подчас сможет заметить в этих записках.
Наши муки и усталость росли по мере того, как подвигался день, потому что скала становилась все горячей, а солнце светило все ярче. Приходилось терпеть и головокружение, и тошноту, и острые, точно ревматические, боли в суставах. Я тогда вспоминал и потом часто вспоминал эти строки из нашего шотландского псалма:
Месяц не будет поражать тебя ночью,А также и солнце – днем.И действительно, только благодаря божьему милосердию нас не поразил солнечный удар.
Наконец около двух часов положение наше стало невыносимо: кроме того, теперь надо было не только претерпевать мучения, но и бороться с искушением. Солнце начинало клониться к западу, и потому на восточной стороне нашей скалы показалась теневая полоса.
– Все равно, здесь умереть или там, – сказал Алан и, соскользнув через край, очутился на земле с теневой стороны.
Я немедля последовал за ним и растянулся во всю длину, так как у меня кружилась голова и я совсем ослабел от долгого пребывания на солнце. Тут мы пролежали час или два обессиленные, с болью во всем теле и совсем не защищенные от глаз любого солдата, которому пришло бы в голову пройти в этом направлении.
Однако никто не появился: все солдаты проходили с другой стороны, так что скала защищала нас и в нашем новом положении.
Вскоре мы немножко отдохнули, и, так как солдаты расположились ближе к берегу, Алан предложил мне идти дальше. Я тогда больше всего в мире боялся очутиться опять на скале и охотно согласился бы на все, что угодно.
Итак, мы приготовились в путь, и начали скользить друг за другом по скалам, и пробирались то ползком на животе в тени уступов, то со страхом в душе перебегали открытые пространства.
Солдаты, обыскавшие для вида эту сторону долины и, вероятно, сонные теперь от полуденного зноя, утратили свою бдительность и дремали на постах, оглядывая только берега потока. Идя вниз по долине, по направлению к горам, мы все время удалялись от них. Но это было самое утомительное дело, в каком мне когда-либо приходилось участвовать. Нужно было глядеть во все стороны, чтобы оставаться незамеченным на неровной местности, на расстоянии окрика от массы рассеянных повсюду часовых. Когда нам приходилось перебегать открытое пространство, требовалась не только быстрота движения, но и сообразительность; нужно было отдать себе отчет не только в общем расположении местности, но и в прочности каждого камня, на который приходилось ступать, так как день стоял тихий и падение камешка, как и пистолетный выстрел, пробуждало эхо между холмами и утесами.
К закату мы уже прошли порядочное расстояние даже при таком медленном продвижении, но часовые на скале все еще были ясно видны нам. Вдруг мы заметили нечто, сразу заставившее нас забыть все опасения: это был глубокий, стремительный ручей, мчавшийся вниз на соединение с потоком, протекавшим в долине. Увидев его, мы бросились ничком на берег и окунули голову и плечи в воду. Не могу сказать, какая минута была для нас приятнее: та ли, когда мы освежились в холодном ручье, или та, когда мы с жадностью стали пить воду.
Мы лежали тут – берега закрывали нас, – снова и снова пили, смачивали себе грудь, опускали руки в бегущую воду, пока их не начало ломить от холода. Наконец чудесным образом восстановив свои силы, мы достали мешок с мукой и приготовили драммах[17] в железном котелке. Хотя это только овсяная мука, замешанная на холодной воде, но все-таки она представляла собой довольно хорошее кушанье для голодного.
Когда нет возможности развести огонь или, как в нашем положении, есть причины не разводить его, такое месиво служит главной опорой для тех, кто прячется в зарослях.
Как только стало темнеть, мы отправились дальше сперва с некоторыми предосторожностями, а затем все смелее, поднявшись во весь рост и крупно шагая, как на прогулке. Дорога, извивавшаяся по крутым склонам гор и по вершинам холмов, была трудной. На закате появились облака, и ночь пришла темная и прохладная, так что я не особенно устал, но только все время боялся упасть и скатиться с горы, не имея понятия о направлении, куда мы шли.
Наконец взошел месяц и застал нас еще в дороге. Он был в последней четверти и долго не показывался из-за туч; теперь он осветил нам множество темных горных вершин, а далеко под нами он отразился в узкой излучине лоха.
Мы остановились. Меня поразило, что я нахожусь так высоко и иду, как мне казалось, по облакам. Алан же хотел убедиться, идем ли мы в верном направлении.
Очевидно, он остался доволен и, вероятно, считал, что мы ушли далеко от наших врагов, потому что всю остальную часть нашего ночного пути насвистывал разные песни, жалобные, воинственные или же веселые, плясовые, которые заставляли идти скорей. Я услышал также песни моей родины, и мне захотелось быть дома после всех приключений. Это развлекло нас в дороге по темным пустынным горам.
XXI. Бегство. Ущелье Корринаки
Начало светать, когда мы достигли места своего назначения – расселины на вершине горы, посередине которой пробегал ручей и где с правой стороны была пещера в скале. Березки образовали здесь редкий красивый лесок, который дальше переходил в сосновый бор. Поток кишел форелями, лес – дикими голубями, а вдалеке, на открытой стороне горы, постоянно свистали дрозды и куковали кукушки. Из расселины мы видели внизу часть Мамора и лох, отделяющий его от Аппина. Мы смотрели на все с такой высоты, что любоваться этим видом служило для меня постоянным источником удивления и восторга.
Расселина эта называлась Корринаки, и, хотя из-за ее возвышенного положения и близости к морю она часто закрывалась тучами, все-таки, в общем, это было хорошее место, и пять дней, проведенных там, прошли приятно.
Мы спали в пещере, прикрывшись плащом Алана и устроив себе постель из кустов вереска, которые срезали для этой цели. В одном углу ущелья было потаенное местечко, где мы отваживались разводить огонь; таким образом мы могли согреться, когда находили тучи, варить горячую похлебку и жарить маленьких форелей, которых мы ловили руками под камнями и под нависшими берегами ручья. Рыбная ловля была нашим главным занятием и развлечением не только потому, что мы хотели сохранить муку на лучшие времена, но и потому, что нас забавляло наше соперничество; мы проводили большую часть дня у воды, обнаженные по пояс, ощупью отыскивая рыбу. Самая крупная из пойманных нами рыб весила не более четверти фунта, но они были мясистые и вкусные, в особенности испеченные на угольях, и заставляли нас сожалеть только об отсутствии соли.
В свободное время Алан учил меня обращаться со шпагой, так как мое неумение приводило его в отчаяние. Я, кроме того, думаю, что, замечая иногда мое превосходство в рыбной ловле, он с радостью обращался к упражнению, в котором так превосходил меня. Он осложнял обучение более чем следовало, нападая на меня во время урока с пронзительным криком и наступая так близко, что я боялся, как бы он не проткнул меня шпагой. Мне часто хотелось убежать, но я все-таки оставался на месте, и уроки принесли мне некоторую пользу, научив обороняться с уверенным видом, а иногда это все, что требуется. Итак, не будучи в состоянии удовлетворить своего учителя, я сам был не совсем доволен собой.
Но читатель не должен думать, что мы в это время забыли о своем главном деле, то есть о бегстве.
– Пройдет еще много дней, – сказал мне Алан в первое утро, – прежде чем солдатам придет в голову обыскивать Корринаки. Так что теперь нам следует послать Джемсу извещение, а он должен прислать нам денег.
– А как мы пошлем извещение? – спросил я. – Мы здесь в пустынной местности, откуда не смеем уйти. И если только вы не пошлете птиц небесных, я, право, не знаю, как мы можем это сделать.
– Да? – сказал Алан. – Ты не отличаешься изобретательностью, Давид.
Вслед за тем он погрузился в размышления, глядя на пепел костра. Потом, взяв кусок дерева, он сделал из него крест, концы которого обжег на угольях, несколько смущенно взглянув на меня.
– Не можешь ли ты уступить мне пуговицу? – спросил он. – Конечцо, странно спрашивать подарок обратно, но, признаюсь, мне неохота отрезать другую.
Я дал ему пуговицу, и он продел в нее узкую полоску материи, оторванную от его плаща, и перевязал ею крест; затем, прикрепив к нему веточку березы и сучок сосны, с довольным видом взглянул на свою работу.
– Недалеко от Корринаки, – сказал он, – есть деревушка, под названием Колинснакоэ. Там много моих друзей – им бы я мог доверить свою жизнь, но там есть и такие люди, в которых я не так уверен. Видишь ли, Давид, за наши головы будет объявлена награда – сам Джемс обещает награду, – а уж Кемпбеллы не пожалеют денег, чтобы повредить Стюарту. Иначе, я, несмотря ни на что, спустился бы в Колинснакоэ и доверил бы свою жизнь этим людям так же легко, как другому дал бы перчатку.
– Ну, а теперь? – сказал я.
– А теперь, – отвечал он, – я бы предпочел, чтобы они не видали меня. Везде бывают дурные люди или, что еще хуже, слабые люди. Когда стемнеет, я прокрадусь в деревушку и поставлю этот крест на окно своего хорошего друга Джона Брека Макколя, арендатора исполу в Аппине[18].
– Прекрасно, – сказал я. – И что он подумает, увидев крест?
– Ну, – сказал Алан, – мне бы хотелось, чтобы он был проницательным человеком, иначе, честное слово, боюсь, что он мало чего поймет! Но вот как я себе представляю это. Этот крест похож на смоляной или огненный крест, который служит сигналом для сбора наших кланов. Но он отлично поймет, что сейчас клан не должен восставать, так как хотя крест и будет стоять у него на окне, но при нем не будет ни одного слова. Итак, он подумает: «Клан не должен восставать, но что-то нужно сделать». Тогда он увидит мою пуговицу, пуговицу Дункана Стюарта, и подумает: «Сын Дункана в зарослях и нуждается во мне».
– Хорошо, – сказал я, – предположим, что это возможно. Но ведь зарослей очень много отсюда до форта.
– Совершенно верно, – сказал Алан. – Но Джон Брек увидит ветку березы и сучок сосны и подумает, если у него есть хоть капля сообразительности, в чем я не сомневаюсь: «Алан прячется в лесу из берез и сосен». А затем: «Это здесь довольно редко встречается», и станет искать нас в Корринаки. А если он не сделает этого, Давид, то черт бы его побрал совсем: он недостоин тогда посолить свою похлебку.
– Ну, любезный, – заметил я, слегка подшучивая над ним, – вы очень изобретательны! Но не проще ли было бы написать ему несколько слов?
– Это превосходное замечание, мистер Бальфур из Шооса, – отвечал Алан насмешливо. – Для меня было бы, конечно, гораздо проще написать, но Джону Бреку было бы нелегко прочесть это: ему пришлось бы походить в школу годика два-три, и мы, вероятно, устали бы поджидать его.
Итак, ночью Алан отнес свой огненный крест и поставил его арендатору на окно. Он вернулся в тревоге: почуяв его, собаки залаяли и народ выбежал из домов. Ему даже послышался звон оружия и показалось, что к одной из дверей подошел солдат. Во всяком случае, мы назавтра не выходили из леса и были настороже, так что, приди туда Джон Брек, мы могли бы указать ему дорогу, а если бы пришли красные мундиры, у нас хватило бы времени уйти.
Около полудня можно было разглядеть человека, который пробирался по освещенному солнцем склону горы оглядывался вокруг, заслонив глаза рукой. Едва заметив его, Алан свистнул; тот повернулся и направился нашу сторону. Тогда Алан свистнул еще раз, и человек подошел еще ближе. И так, по свисту, он нашел путь к месту, где мы находились.
Это был оборванный, дикого вида бородатый человек, лет около сорока, сильно обезображенный оспой и выглядевший мрачным и нелюдимым. Хотя он говорил на ломаном английском языке, Алан, по своему милому обыкновению, в моем присутствии не позволял ему изъясняться по-гэльски. Чужой язык, может быть, заставлял его казаться еще более тупым, чем он был в действительности. Но мне подумалось, что он мало расположен помогать нам, а если поможет, то из страха.
Алан желал, чтобы он передал на словах поручение Джемсу, но арендатор об этом и слышать не хотел. «Я забуду его», – сказал он пронзительным голосом и решительно объявил, что если не получит письма, то ничего для нас не сделает.
Я думал, что Алан станет в тупик, потому что в этой пустыне трудно было найти принадлежности для письма. Но он был более находчив, чем я предполагал. Он стал искать в лесу, пока не нашел перо дикого голубя, и сделал из него перо для писания; затем приготовил нечто вроде чернил из пороха и воды и, оторвав уголок от своего французского военного патента, который носил в кармане как талисман от виселицы, написал следующее:
Дорогой родственник, пришлите, пожалуйста, деньги предъявителю этого письма в известное ему место.
Ваш преданный брат А. С.
Эту записку он вверил арендатору, который, обещав поторопиться насколько возможно, отправился с нею вниз.
Человек этот не появлялся целых три дня, а в пять часов вечера на третий день мы услышали в лесу свист, на который Алан отозвался. Вскоре арендатор показался на берегу реки и стал искать нас, оглядываясь направо и налево. Он казался нам менее угрюмым, чем прежде, и, по всей вероятности, был очень рад, что покончил с таким опасным поручением.
Он рассказал нам новости: вся страна кишела красными мундирами, каждый день у кого-нибудь находили оружие, и бедный народ был в постоянной тревоге. Джемса и часть его слуг, находившихся под сильным подозрением в соучастии в убийстве, заключили в тюрьму в форте Виллиам. Везде носился слух, что выстрел произвел Алан Брек; было выпущено объявление, в котором предлагалась награда в сто фунтов тому, кто поймает его и меня.
Хуже быть ничего не могло, и письмо, которое арендатор принес от миссис Стюарт, было крайне печального содержания. Она умоляла Алана уйти от врагов и уверяла, что если он попадется в руки солдатам, то ни ему, ни Джемсу не избежать смерти. Деньги, присланные ею, составляли все, что она могла выпросить или занять, и бедная женщина молила небо, чтобы их нам хватило. Под конец она написала, что прилагает объявление, в котором описаны наши приметы.
Мы посмотрели на объявление с большим любопытством и с не меньшим страхом, отчасти так, как человек глядится в зеркало, а отчасти, как если бы он глянул в дуло неприятельского ружья, чтобы судить, верен ли прицел. Об Алане было написано, что он «небольшого роста, рябой, лет около тридцати пяти, носит шляпу с перьями, французский мундир синего цвета с серебряными пуговицами и сильно потускневшими галунами, красный жилет и черные плисовые панталоны». Обо мне было сказано, что я «высокий, сильный, безбородый юноша лет восемнадцати, в старой синей шапочке, длинном жилете домашнего тканья, синих штанах, с голыми икрами и в башмаках лоулэндского покроя, с продранными носками, говорит на наречии жителей Лоулэнда».
Алану понравилось, что его изящный костюм так запомнили и описали. Только когда дело дошло до слова «потускневшими», он взглянул на свой галун с огорченным видом.
Я же подумал про себя, что имею, судя по объявлению, очень жалкий вид, но вместе с тем был этому рад, потому что, с тех пор как я снял свои лохмотья, описание их перестало быть опасным, а сделалось, напротив, источником моего спасения.
– Алан, – сказал я, – вам бы следовало переменить одежду.
– Пустяки, – ответил он, – у меня нет другой одежды. Хорош бы я был, если б вернулся во Францию в колпаке!
Это навело меня на размышление: покинув Алана с его предательской одеждой, я мог не опасаться ареста и свободно идти по своему делу. Но это еще не все: предположим, что я буду арестован один, – против меня найдется мало улик; если же меня захватят в обществе человека, принимаемого за убийцу, мое положение сразу станет очень серьезным. Из великодушия я не высказал этих мыслей, тем не менее они не выходили у меня из головы.
Я особенно призадумался, когда арендатор вытащил зеленый кошелек с четырьмя золотыми гинеями и мелочью почти на одну гинею. Правда, это было больше, чем я имел сам. Зато Алану с пятью гинеями приходилось добираться до Франции, а мне с двумя – только до Куинзферри, так что общество Алана могло оказаться не только опасным для моей жизни, но и обременительным для моего кармана.
Однако мой честный товарищ был далек от подобных мыслей. Он верил, что служит и помогает мне, и защищает меня. Что еще оставалось мне делать, если не молчать, сердиться и рисковать жизнью?
– Этого мало, – сказал Алан, кладя кошелек в карман, – но с меня хватит. А теперь, Джон Брек, отдай мне пуговицу, и мы с этим джентльменом пустимся в путь.
Но арендатор, пошарив в волосяном кошельке, который висел у него спереди по обычаю горцев, хотя он носил лоулэндскую одежду и морские штаны, стал странно ворочать глазами и наконец сказал:
– Она, верно, пропала, – подразумевая, что он, верно, потерял ее.
– Как, – сказал Алан, – ты потерял пуговицу, которая принадлежала моему отцу? Скажу тебе откровенно, Джон Брек, я думаю, что это самый дурной поступок, который ты совершил с самого своего рождения.
С этими словами Алан опустил руки на колени и с насмешливой улыбкой посмотрел на арендатора, но в глазах у него замелькал огонек, обычно не предвещавший ничего доброго его врагам.
Может быть, арендатор был и честный человек; может быть, он хотел сплутовать, но потом, увидев, что нас двое против него в таком пустынном месте, нашел более безопасным стать на честный путь. По крайней мере, он сразу отыскал пуговицу и отдал ее Алану.
– Ладно, это спасло честь Макколей, – сказал Алан. Затем, обратившись ко мне, прибавил: – Вот тебе моя пуговица обратно, и благодарю тебя за то, что ты расстался с ней: это одна из твоих многих услуг мне. – Затем он тепло попрощался с арендатором. – Ты мне очень удружил, – сказал он, – ты подвергал свою жизнь опасности, и я всегда буду считать тебя хорошим человеком.
Наконец арендатор ушел, а мы с Аланом, собрав свои пожитки, отправились в другую сторону.
XXII. Бегство. Степь
После более чем одиннадцатичасового непрерывного тяжелого перехода мы достигли рано утром конца горного кряжа. Перед нами лежала низменная, неровная, пустынная земля, которую нам предстояло пересечь. Солнце появилось недавно и светило нам прямо в глаза; легкий, прозрачный туман, точно дымок, поднимался с поверхности болота, так что, как говорил Алан, тут могло расположиться двадцать эскадронов драгун и мы не узнали бы об этом.
В ожидании, когда рассеется туман, мы уселись во впадине на склоне холма, приготовили себе драммах и стали держать военный совет.
– Давид, – сказал Алан, – трудновато решить, лежать ли нам тут до ночи или рискнуть пойти вперед?
– Ну, – ответил я, – положим, я устал, но если нужно, то могу пройти еще столько же.
– Да, по это не все, – сказал Алан, – и даже не половина дела. Вопрос вот в чем: Аппин для нас верная смерть. К югу все принадлежит Кемпбеллам. К северу… Но мы ничего не выиграем, идя к северу: тебе нужно попасть в Куинзферри, а мне во Францию. Итак, нам стается отправиться на восток.
– Отлично! На восток так на восток, – сказал я весело, но сам подумал: «Любезный мой, если бы вы держались одного направления и позволили мне идти по другому, было бы лучше для нас обоих».
– Но видишь ли, Давид, – продолжал Алан, – раз мы пойдем на восток, в эту степь, то попадем в настоящую ловушку. Ну как повернуться на этом обнаженном, плоском месте? Если солдаты взойдут на холм, то увидят нас за несколько миль. И, главное, горе в том, что они на лошадях и скоро догонят нас. Это скверное место, Давид, и, говорю откровенно, днем оно хуже, чем ночью.
– Алан, – сказал я, – выслушайте мое мнение. В Аппине нас ожидает смерть: у нас нет ни лишних денег, ни даже муки. Чем дольше солдаты будут искать, тем вернее догадаются, где мы, – все это риск. Но я даю слово идти вперед, пока хватит сил.
Алан пришел в восторг.
– Бывает иногда, – сказал он, – что ты слишком педантичен и рассуждаешь слишком похоже на вига для джентльмена, подобного мне, но иногда в тебе искрится энергия, и тогда, Давид, я люблю тебя, как брата.
Туман поднялся и рассеялся, и мы увидели перед собою равнину, обширную, как море. Слышен был только крик болотной птицы, а на востоке двигалось стадо оленей, казавшихся издалека точками. Большая часть равнины краснела вереском, остальная была перерезана болотами и торфяными ямами; кое-где она чернела после степного пожара, а местами виднелись целые леса сухих деревьев, стоявших точно скелеты. Едва ли кто-нибудь видел более унылую пустыню, но, по крайней мере, там не было солдат, а это было самое важное.
Мы спустились вниз и продолжали свой трудный, извилистый путь по направлению к востоку. Кругом (читатель, верно, помнит) поднимались холмы, откуда нас каждую минуту могли увидеть. Поэтому нам следовало держаться углубленных мест на пустоши, а когда наш путь отклонялся в сторону от них, то с бесконечными предосторожностями пересекать открытое место. Иногда мы целых полчаса должны были ползти от одного куста вереска к другому, как охотники, преследующие красного зверя. День снова был ясный, солнце палило; вода в бутылке от водки скоро истощилась. И если бы я раньше знал, каково это – половину пути ползти на животе, а большую часть другой идти, согнувшись почти вдвое, то, разумеется, отказался бы от такого ужасного предприятия.
Выбиваясь из сил, отдыхая и снова утомляясь, мы прошли все утро и около полудня легли спать в густых кустах вереска. Алан первый стал на вахту, и мне показалось, что едва я успел закрыть глаза, как он уже разбудил меня, чтобы смениться. У нас не было часов, и Алан воткнул в землю сучок вереска с тем, чтобы, когда тень от куста, склоняясь к востоку, дойдет до этого места, я бы разбудил его. Но я чувствовал себя настолько утомленным, что мог бы проспать двенадцать часов подряд; все мои суставы спали, даже когда ум бодрствовал. Горячий запах вереска, жужжание диких пчел совершенно усыпили меня. Время от времени я вздрагивал и тогда замечал, что дремлю.
Когда я проснулся окончательно, мне показалось, что я возвратился откуда-то издалека. Солнце, подумал я, ушло что-то очень вперед. Посмотрев на сучок вереска, я чуть не вскрикнул, так как понял, что не оправдал доверия Алана. Я почти потерял голову от страха и стыда, но когда окинул взглядом пустошь, то увидел там нечто такое, от чего мое сердце замерло: в то время, когда я спал, сюда спустилась группа конных солдат; они приближались к нам с юго-востока, рассеявшись в форме веера, и осматривали те места, где вереск был выше и гуще.
Когда я разбудил Алана, он сперва взглянул на солдат, затем на сучок вереска и на положение солнца и, наморщив брови, бросил на меня быстрый взгляд, одновременно сердитый и озабоченный: так он упрекнул меня.
– Что же нам теперь делать? – спросил я.
– Нам надо вообразить себя зайцами, – сказал он. – Видишь ты вон ту гору? – спросил он, указывая на северо-восток.
– Да, – ответил я.
– Ну, – продолжал он, – направимся туда. Она называется Бэн-Альдер. Это дикая, пустынная гора, вся в уступах и впадинах. И если мы достигнем ее до утра, мы еще не погибли.
– Но, Алан, – заметил я, – нам тогда придется пересечь дорогу солдатам!
– Я это отлично знаю, – отвечал он. – Но если нас оттеснят к Аппину, нам обоим не избежать смерти. А теперь, Давид, проворнее!
И он побежал вперед на четвереньках с невероятной быстротой, точно это был его обычный способ передвижения. Все время он петлял по самым низким местам равнины, где мы были лучше всего скрыты. На сожженных или, по крайней мере, поврежденных огнем местах прямо в наши лица, которые были близко к земле, поднималась ослепляющая, удушающая пыль, мелкая, как дым. Вода уже давно кончилась, а бег на четвереньках вызывал такую ужасную слабость и усталость, что у нас болели все суставы, а кисти рук подгибались под тяжестью тела.