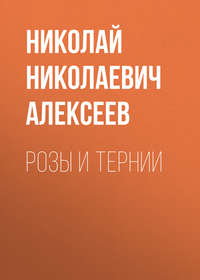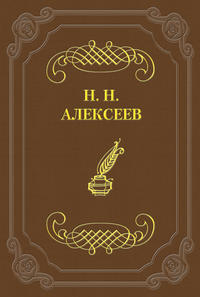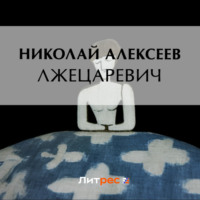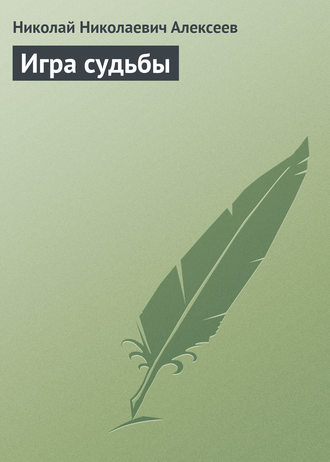 полная версия
полная версияИгра судьбы
– Пойдемте, господа. Полинька, чайку не прочь? Или, плутовка, наливочки с нами, хе-хе? Как здорова, попрыгунья?
В сопровождении хозяина приезжие поднялись на крыльцо и, разоблачившись в небольших теплых сенях, прошли в жарко натопленную горницу, убранную просто, но с безукоризненной чистотой. Было немножко душно, пахло свежим хлебом. От лампад перед многочисленными иконами лился слабый желтоватый свет.
Евграф Сергеевич Воробьев, отставной прапор, оказался, когда скинул шубу, плотным, кругленьким человечком лет под шестьдесят, с веселым, гладко бритым лицом, украшенным двойным подбородком, и с маленькими, добродушными, заплывшими глазками.
Между двумя стариками Полинька выделялась как прекрасная роза среди увядшей крапивы. Девушка была очень хороша собою. Что-то вызывающее было в ее чересчур вздернутом носике, задорное и немножко грустное во взгляде голубых глаз; цвет лица мог поспорить белизной с мрамором; нежный румянец вспыхивал на щеках; губы так и манили к поцелую. Роста она была среднего, стройна, округлые формы, обрисовываясь из-под простенького темного платья, дразнили воображение.
– В самом деле, чего долго не приезжал, Евграф Сергеевич? – спросил Василий Иванович, когда гости расположились на самодельных стульях, а ключница старуха Мавра вместе с казачком Андрюшкой бренчали посудой, собирая на стол.
– Ей-Богу, правда, ломота одолела: просто сил нет. Надо думать, перемене погоды быть. Сегодня полегчало, ну и говорю: «Поедем, Полька, к приятелю!». Вот мы и здесь. Ну как живешь?
– Да так: ни шатко ни валко, ни на сторону. Мавра, скоро ты?!
– Пожалте к столу. Сейчас Андрюшка самовар подаст.
– Давайте закусим, и я с прогулки тоже не прочь. Ты, Мавра, подай варенья побольше малинового: Полинька любит. Ну, Господи, благослови! Подвигайся, Евграф, пропустим по единой травничку, а вот и грибочки.
Кисельников с приятелем выпивали, закусывали и вели бессодержательную беседу, чуть не каждое слово которой было давно знакомо Полиньке. Она не слушала их и сидела со скучающим видом. Все-то одно и то же, день один, как другой… Тоска!
«Будь здесь Саша, тогда иное дело», – мелькнуло у нее.
Эта мысль приходила в голову девушки при каждом приезде в усадьбу капитана, каждый раз заставляла ярче вспыхивать румянец и щемила сердце сладкой грустью.
Раз только во время стариковской беседы девушка вдруг насторожилась и вся обратилась во внимание: заговорили об Александре Васильевиче.
– От сынка нет ли вестей? – спросил Воробьев. Василий Иванович слегка нахмурился и сказал со вздохом:
– Сдается мне, с ним неладно что-то. Сам он ничего не пишет, только, что здоров, да поклоны посылает. А вот Михайлыч мне от себя дал весточку. Пишет бестолково и что-то такое несуразное: будто из-за какой-то девки Сашка с каким-то князьком повздорил.
Ложка, которой Полинька брала варенье, дрогнула в ее руках, лицо заметно побледнело.
– Скажи на милость! С этакой персоной, с князем, и из-за девки!.. – подлил масла в огонь ее отец.
– Да мало того: на поединок с ним вышел и застрелил этого самого князя-то.
– Э-э! За такие дела не похвалят.
– Что говорить. Не знаю, ошалел Сашка, что ли? Непохоже на него. Сдается, Михайлыч что-нибудь напутал.
– Конечно, напутал, – воскликнула каким-то звенящим голосом Полинька, вдруг покраснев до корней волос. – Никогда не поверю, чтобы Саша… Чтобы Александр Васильевич в такие дела… На поединок из-за…
Она замолкла, совершенно смущенная. В глазах блеснули слезы.
– Та-та-та, как взъерепенилась, та-та-та! – не то с недоумением, не то с удивлением сказал ее отец.
Василий Иванович закивал ей с довольным видом.
– Верно, Полинька, верно! Не таков мой Сашка, чтобы из-за какой-то девки человека убивать. Вранье, вранье!
– Однако, так сказать, дыма без огня не бывает, – задумчиво промолвил Воробьев.
– Может, что-нибудь и есть, да совсем иное, – проговорил Кисельников и перевел разговор на какую-то хозяйственную тему.
Для Полиньки беседа стариков потеряла интерес, и она отдалась своим думам. Она была сильно взволнована известием и огорчена; ей было больно, словно ее ударили ножом, в душе царила неясная суета.
«Чтобы он, Саша, сделал такое… И из-за, из-за… этакой! Никогда не поверю! Или он, говоря мне о своей любви, лгал, только сыпал словами, а в душе думал не то? Но ведь это – ужас! Ведь тогда и жить не стоит. Боже мой! Возможно ли это?»
И в ее воображении пронесся образ молодого Кисельникова с его открытым лицом, с ясным взглядом.
«Нет, он мне не лгал, нет… Но ведь сердцу не прикажешь. Может, та-то, питерская, куда лучше меня».
Змея ревности так и ужалила, и шевельнулась жгучая злоба против «той», неведомой, но ненавистной.
«Пустяки! И чего я всполошилась? Придет время, узнаю все», – пыталась успокоить себя Полинька.
Вдруг среди раздумья до нее донеслись слова отца:
– Нет, ты не смейся, Василий Иванович: доподлинно известно, что татарва у границы собирается и уже пошаливать начинает.
– Ну и пусть пошаливают, – лениво цедил Кисельников, уже изрядно хвативший наливки и потому бывший хоть и в благодушнейшем, но сонном состоянии.
– А если они к нам ворвутся?
– Мы их в штыки да в сабли, хе-хе! Вспомним, как немцев били.
– Шути, шути, а как в самом деле случится, тогда, брат, будет поздно. Команд-то у нас в этих местах, кроме гарнизона в Елизаветграде, нигде нет. Им, разбойникам, это и на руку.
– Полно молоть! Не прежние сейчас времена. А вот что спать пора, это верно! – И Кисельников, зевнув, потянулся, после чего, позвав Мавру, приказал ей стлать пуховички.
Старики расположились на покой в спальне Василия Ивановича, а для Полиньки была устроена постель в смежной комнате, куда притащила свою перинку и Мавра, чтобы барышне страшно одной не было.
Вскоре дом погрузился в тишину, среди которой гулко раздавались басистый храп гостя и тонкая фистула хозяина.
Полиньке не спалось. Она закутывалась поплотней в одеяло, нарочно не открывала глаза, но мысли, одна другой назойливее, так и теснились в голове, отгоняя сон. Лишь после долгих усилий она наконец впала в тяжелое забытье, полное смутных сновидений. То ей снился Саша, грустный, бледный, с упреком смотревший на нее, то грезились скуластые татарские физиономии, дико кричавшие, то что-то неопределенное, то страшное до ужаса.
Когда девушка очнулась, начинался рассвет. Все еще спали, кроме неутомимой Мавры, которая уже отправилась хлопотать по хозяйству, чтобы к пробужденью господ все уже было как надо.
«Поспать разве еще? – подумала Полинька и повернулась было на другой бок, но почувствовала, что не заснет. – Не стоит валяться. Встану».
Она начала медленно одеваться. Вечерней смуты как не бывало, на душе было спокойно и ясно.
Утро занималось доброе; загоревшаяся заря кинула розовый отблеск в комнату, и в этом розоватом свете стройная фигура девушки с рассыпавшимися по неприкрытым плечам золотистыми волосами была обворожительно прелестна. Вошедшая Мавра залюбовалась ею.
– Что ты за красоточка, барышня! Тебя бы за принца либо за королевича только и сватать. Что раненько поднялась? Ты бы… – начала было экономка и остановилась с открытым ртом.
Разом вздрогнули и старуха, и девушка: откуда-то издали донесся и потряс воздух какой-то отдаленный раскат грома, за ним – другой, третий – правильными перекатами, сливавшимися в один сплошной гул.
Мавра заахала, крестясь:
– С нами крестная сила! Что это? Да ведь это из пушек в городе палят.
Полинька стала дрожащими пальцами торопливо застегивать платье. Ей вспомнился вчерашний разговор, у нее мелькнула страшная мысль: «Татары!». И она с криком побежала в смежную комнату.
Старики уже проснулись и, переполошенные, поспешно накидывали одежду.
– Василий Иванович! – бормотал весь бледный Воробьев. – Палят… Я тебе говорил… Ах, Боже мой! Да где же мои сапоги?..
Кисельников в одном халате выбежал на крыльцо.
На дворе толпились полуодетые дворовые. Бабы хныкали.
– Ой, батюшка, родименький! Пропали наши головушки! Сейчас казак проскакал, говорил, татары к городу подошли. Тьма их тьмущая… Рыщут всюду, что волки.
Вздрогнул и побледнел Кисельников.
Мало-помалу на дворе столпились все обитатели дома. Полинька жалась к отцу, как тростинка к крепкому дубу, но и сам этот дуб дрожал как осиновый лист.
Из деревни донеслись неистовый звук набата и дикие вопли. Было видно, как вспыхнула крайняя изба.
И вдруг вся равнина почернела от десятков всадников, словно выросших из земли. Воздух наполнился гортанными выкриками и фырканьем коней. С десяток желтолицых, скуластых всадников на поджарых скакунах примчались к усадьбе. Ворота выломали.
– Деревню жгут, проклятые! – в отчаянье воскликнул Василий Иванович, но тотчас же в нем страх заменился злобой. Он, быстро вбежав в комнату, схватил мушкет, который держал заряженным на случай, и вернулся обратно.
Татары уже ворвались.
– А, вы так! – пробормотал старик и прицелился.
Грянул выстрел. Не изменили рука и глаз старому воину: один из всадников схватился за грудь и тяжело рухнул с седла. Но через мгновение блеснула кривая татарская шашка над головой Кисельникова, и упал, как подкошенный, старик капитан, щедро орошая снег кровью из раскроенного черепа.
Полинька молилась, находясь как в чаду. Внезапно перед нею круто осадил коня широкоплечий богатырь татарин со зверским лицом и схватил ее за плечо. Она вскрикнула.
Евграф Сергеевич обеими руками уцепился за дочь, крича:
– Оставь, мерзавец!
– Ты, старая собака, молчи. А ты, красавица, не плачь! Мы тебя увезем, хану продадим. Будешь ты у него щербет пить, шелка носить. Тебе, душа, горевать не надо! – произнес татарин и, подняв девушку, как перышко, перекинул ее через седло.
– Отец! – отчаянно закричала Полинька.
– Зачем отец? Отец – старая собака. Куда его? Ему башку срезать надо, – сказал татарин и округлым, быстрым движением шашки снес голову старика Воробьева с плеч.
Полинька рванулась, дико вскрикнула и лишилась сознания.
Окончив грабеж, татары унеслись с быстротой ветра, оставляя следом дымившиеся деревушки и факелом горевшую скромную усадьбу Кисельникова.
Набег хана Крым-Гирея стоил елизаветградской провинции многих пленных, множества скота и до тысячи сожженных домов. Красивейших женщин хан отвез в дар султану.
XXIII
Перенесемся опять с далекой окраины тогдашней России в приневскую столицу.
Весной состоялась свадьба Ольги Свияжской с Евгением Дмитриевичем Назарьевым. В залитую огнями церковь Рождества Богородицы, где происходило венчание, съехалась вся петербургская знать; императрица прислала через флигель-адъютанта подарок молодым и свое поздравление.
Невеста дышала счастьем, о Назарьеве и говорить нечего, Свияжский-отец сиял и ходил гоголем; из всей семьи были только двое, не разделявшие общего довольства, а именно Надежда Кирилловна и… Николай Андреевич.
Мачеха улыбалась, и никто не знал, что у нее творится на душе; только неровное дыхание да лихорадочный, злой блеск глаз могли бы выдать ее волнение; но этого никто не заметил, и даже все решили, что она «поистине, не мачеха, а совсем-совсем как родная мать».
Невесел был и юный Свияжский. Он отнюдь не завидовал сестре, а наоборот, от всего сердца желал ей величайшего благополучия; но, по сравнению с ее счастьем, еще глубже, безнадежнее представлялось ему его собственное горе.
«Олечка счастлива, Бог неожиданно для всех устроил ее судьбу. Но мне и на это, на такое чудо, какое совершилось с сестрой, нельзя рассчитывать, – думал он. – Будем видеться, будем мечтать, пока хоть это можно, а там… Ох, лучше и не заглядывать вперед! Верно, выдадут Дунечку за какого-нибудь лабазника».
Тайные свидания с Дуней Вострухиной продолжались и были единственной отрадой для обоих влюбленных. На этих свиданиях молодые люди, словно по соглашению, говорили обо всем, кроме будущего, чтобы не омрачать выпадавших им на долю немногих светлых мгновений.
Вскоре и эти свидания должны были прекратиться: тучи уже сгущались над головой молодых людей.
Однажды весной, вскоре после свадьбы Ольги Андреевны, у Федора Антиповича Вострухина состоялся с сыном Сергеем важный разговор. Старик, недавно очнувшийся от послеобеденного сна, был занят выкладкой каких-то подсчетов, как вдруг к нему вошел Сергей и, с сердцем швырнув шапку на ближайший стул, взволнованно воскликнул:
– Ну что, отец? Я говорил, моя правда и вышла: видится Дуняшка с этим офицериком.
– Чего ты фордыбачишь? – окрысился отец. – Совсем заноситься стал. Толком говори, что такое?
– А то такое, что я сам видел, как подъехал верхом этот самый Свияжский, а к нему выбежала Дуняшка. Противно смотреть было, как они стали целоваться да миловаться. Уж не доведет ее до добра этот табашник!
– Что у тебя все за новые слова!.. «Табашник»! Стало быть, и я табашник, по-твоему? И откуда ты набрался?
– Познал я свет истинного древнего православия. Есть некие старцы и старицы. Чуждаются они мирской лепоты и соблазнов, живут по-христиански. Они меня и наставили, и утвердился я в их праведном учении. Вот что, батюшка – заговорил Сергей более мягким тоном. – Не учить я тебя хочу, а в самом деле добра от этого офицера мало будет.
– Оно верно, надо Дуняшку выдать.
Сын поморщился.
– Совсем нет. Брак – это тоже как кому. Да и лучше, если Дуняша не выйдет: могущий в себе вместити да вместит. А надобно ее наставить, оградить от зла. И нет на это, право же, лучше тех неких стариц и старцев. Не хочешь меня слушать, послушай хоть отца Никандра, он то же самое скажет. Ты меня посылаешь вот в Москву по торговым делам, позволь, я с собой Дуню туда возьму.
– Н-ну уж не знаю.
– Так нечто лучше ей здесь? Один соблазн. Сегодня вечерком придет отец Никандр, поговори с ним.
– Поговорить можно, отчего же, – согласился Федор Антипович и принялся за цифры.
Вечером был долгий и таинственный разговор с отцом Никандром. Уходя, старец заметил:
– Только дочке до поры до времени ни гу-гу: нечего ее смущать – еще, пожалуй, сбежит.
По его уходе Манефа Ильинична долго плакала и даже набралась смелости в чем-то возражать мужу, но он на нее зыкнул, и привыкшая к рабскому повиновению несчастная женщина замолчала.
Почти одновременно с беседой отца и сына Вострухиных произошел разговор, имевший важные последствия, у Андрея Григорьевича Свияжского с сыном Николаем.
Заметим кстати, что граф Никита Иванович Панин выказал себя действительно опытным царедворцем, решив, что рано или поздно граф Григорий Орлов настоит на отправке в Черногорию князя Долгорукого. Так оно и вышло: было решено для противодействия самозванцу Степану Малому и снабжения черногорцев для борьбы с турками порохом, свинцом и оружием отправить генерал-майора князя Юрия Владимировича Долгорукого, в тайности, под именем купца Барышникова. Само собой, у этого мнимого Барышникова должны были иметься сотрудники – такие же, как и он, мнимые купчики. Этим и объясняется приводимая беседа Свияжских, отца и сына.
Как-то старик Свияжский позвал Николая Андреевича к себе в кабинет и встретил его словами:
– Ну, Николай, становись на колени да Богу молись: устроил и для тебя дельце, теперь пойдешь в ход. Слышал ты, что князя Долгорукого отправляют в Черногорию?
– Слышал что-то.
– Ну так ты с ним поедешь, я устроил.
– Да я вовсе и не желаю, – запротестовал Николай. – Зачем меня понесет в Черногорию?
– Зачем? – возмутился старик. – Экий олух, прости Господи! Да ведь это – счастье твое; ведь этакой благодати сколько народу добивалось, но я зубами для тебя вырвал. Ведь справите вы поручение надлежаще, так милостям к вам и конца не будет. А он «зачем»!
– Право, мне неохота.
– Слушай, Николай, ты хоть меня-то пожалей и не срами! Что люди скажут, если ты откажешься? Да и, наконец, это невозможно, невозможно отказываться от этакой благодати. Как хочешь, а ты должен ехать. Я настаиваю, иначе ты мне – не сын. Я хлопочу-хлопочу, а он – на! Глаза бы мои на тебя не смотрели. Едешь или нет? Не поедешь – между нами все кончено.
Николай Андреевич видел, что слова отца – не пустая угроза, что действительно приходится выбирать между согласием или ссорой с отцом на всю жизнь. И он покорился.
– Хорошо, отец, я поеду.
– Ну то-то же, – промолвил старый Свияжский. – Ведь я, голубчик, о твоем же благе хлопочу. Ступай с Богом: теперь ты меня утешил, и я спокоен.
На следующий день, около двух часов пополудни, Николай Андреевич подъехал к задней части владений Вострухина и, спрыгнув с седла, пошел, ведя коня в поводу, вдоль изгороди, уже успевшей украситься яркой зеленью акации. Он вглядывался в кусты, надеясь увидеть Дуню, но ее не было.
«Странно!» – подумал Свияжский и приостановился.
В стороне от него послышался звонкий смех, и из-за зелени выставилась прелестная головка его милой, украшенная венком из желтых цветов одуванчика.
– Хороша, а? На русалку, верно, похожа, ведь они, болтают, венки носят, – заговорила она смеясь. – А я поглядывала. Вижу – хмурится, хмурится. Не стерпела!
Две белых руки через изгородь обвили шею юноши. Он осыпал их поцелуями, а попутно – и розовые губы, и загоревшиеся румянцем щеки.
– Ты гадкий, сегодня долго не шел, – промолвила она, чуть-чуть отстраняясь. – Смотри, в другой раз попадет тебе.
Свияжский вдруг стал серьезен.
– Неприятность у меня, Дуня, то есть не у меня, а у нас с тобой, – тихо проговорил он. – Уезжать мне приходится.
Краска сбежала с ее лица.
– Уезжать? Куда? – чуть слышно спросила она.
– Ах, родная, далеко… Так далеко, что ты и представить себе не можешь. Есть страна, зовется она Черногорией, так вот туда.
– Боже мой! Кто же тебя посылает? И скоро?
– Через недельку так. Я сам горюю.
– Конец, значит! Угонят за тридевять земель! – И слезы, как росинки, покатились по щекам молодой девушки.
– Дунька! Мать зовет тебя, – раздался за ее спиной грубый окрик, и из кустов выступила длинная, мрачная фигура Сергея. – Иди, иди, – толкнул он сестру. – А вы, господин офицер, по задворкам ездите? Как будто их благородию не пристало.
Дуня, расстроенная, смущенная, тихо отошла от изгороди, умоляюще и скорбно посмотрев на Свияжского. У Николая Андреевича закипела кровь.
– А тебе что за дело? – спросил он, теребя хлыст.
– Да ведь я брат ее, и нехорошо, если ваше благородие девку путает, потому…
Хлыст со свистом прорезал воздух, и на лице Сергея заалел кровавый рубец.
– Брысь, гадина, да впредь мне на глаза не попадайся! – крикнул Свияжский, а затем вскочил в седло, посмотрел туда, где стояла, словно окаменев, Дуня, и, крикнув: «Завтра!», дал шпоры коню.
Сергей потер рубец и, злобно посмотрев вслед всаднику, прошептал:
– Будет тебе завтра гостинец!
Прошла ночь. Солнце чуть вставало, когда мать разбудила Дуню.
– Вставай, родненькая, пора! – говорила она всхлипывая. – Братец уже готов.
Девушка не могла сразу очнуться и тянулась к подушке.
– Что, маменька? Оставьте! – бормотала она.
Но Манефа Ильинична не унималась.
– Вставай, родная. Батюшка осерчает. Вот сарафанчик. Поди скорей, голубица, умойся на дорожку. Ах, ты моя сер-де-ш-ная, не-ес-счастная! – вдруг запричитала она, сжимая дочь в судорожных объятиях.
– Маменька, рано еще. И что такое? – воскликнула Дуня, и хотя не понимала, в чем дело, но тем не менее оделась, прошла на кухню помыться и вернулась освеженная.
Мать была еще в спальне.
– Маменька, зачем вы меня подняли так рано? – стала допытываться девушка, вытирая грубым холстинным полотенцем румяное лицо, еще хранившее слабые следы сна.
– Ох, красоточка! Тятенька все скажет, – застонала мать. – Увозят тебя, отнимают. Что я сделаю, горемычная? В этом сундучке вещицы твои. А вот здесь, в узелочке, я тебе кое-что припасла: захочешь пожевать в дороге, так тут расстегайчики, ну и там всякое… Горе-то, горе какое!
Девушка начинала волноваться.
– Увозят? Как так? – воскликнула она. – Ничего мне не говорили.
– Они все между собой. Постник этот особенно всех сбивает. Ну и Сергей.
Дверь распахнулась, и на пороге предстал Сергей в кафтане, с шапкой в руке, в больших дорожных сапогах.
– Скоро ли? Ждем, ждем, – грубо сказал он. – Тятенька сердится. Обряжайте ее, маменька, скорей! – И вышел, сильно хлопнув дверью.
Манефа Ильинична заторопилась.
– Заплетай косу поскорей. Где платочек для головы? Ах, Боже мой! Накидывай кофту-то! Пойдем, доченька, пойдем, родимая! – И она потянула Дуняшу к двери.
Та растерянно следовала за ней, как автомат. Их ждали. Отец встретил возгласом: «Наконец-то!». А потом добавил:
– Ну, помолиться, да и в путь-дорожку.
– А что же, и пора: утречком-то легче ехать, чем по жаре, – заметил сидевший тут же Никандр.
– Тятенька! Что такое, понять не могу! – воскликнула Дуняша.
– Понимать нечего: Сергей едет в Москву и тебя с собой берет.
– В Москву?!
– Ну да… К… тетушке.
– Да какая же там тетушка?
– А такая… Вот увидишь. Нечего тебе тут околачиваться. Делаю это не зря, а ради твоего исправления, потому что мне за тебя придется Богу ответ давать.
– Тятенька! Добренький! Не посылайте меня в Москву, – взмолилась дочь.
– Ни-ни, и не проси! Делаю, добра тебе желаючи. Поживешь с людьми благочестивыми, наберешься ума-разума, тогда и вернешься.
Дуняша глухо застонала и расплакалась. Однако на ее слезы никто не обратил внимания, только Сергей злорадно усмехнулся.
Как сквозь сон слышала Дуняша причитания матери, глухой голос отца. Сильные руки подхватили ее, вывели и посадили в дорожный рыдван. Щелкнул кнут, и экипаж покатил.
Свежий утренний ветерок заставил девушку очнуться от ее полубесчувственности. Прямо против нее сидел в рыдване отец Никандр и перебирал лествицу[10], беззвучно шевеля губами. Рядом с ней помещался брат. Он казался более веселым, чем всегда. Экипаж быстро катился по уходящей вдаль бесконечной, пыльной, залитой солнцем дороге. Поняла Дуняша, что дорога эта ведет ее к новой, неведомой и страшной жизни, и слезы опять полились из ее глаз.
– Сереженька! Куда же это меня? – спросила брата молодая девушка.
– К добрым людям, чтобы тебе баловаться неповадно было, – насмешливо ответил тот.
К вечеру остановились на ночлег, однако не на постоялом дворе, а в уединенно стоявшем в стороне от большой дороги доме, где вышедший им навстречу угрюмый мужик в долгополом темном кафтане встретил старца Никандра чрезвычайно почтительно и подошел к нему под благословение.
Потрапезовали, и перед отходом ко сну между хозяином, Никандром и Сергеем началась «душеспасительная» беседа, где часто упоминалось, что «вера ныне пестра» и что единое средство ко спасению – это переправиться в древнее, истинное православие.
Дуняша сидела в стороне. В беседу она не вникала; только звук гнусавого голоса Никандра достигал ее слуха и еще более усиливал тоску. Она все более понимала, что свершилось нечто роковое, что ее жизнь переломилась, что относительно счастливое прошлое погибло безвозвратно. В ее воображении восстал дорогой образ Николая Свияжского. Он манил ее, звал к себе, печальный, страдающий.
И вдруг в самый разгар оживленнейшего разглагольствования отца Никандра глухие рыдания вырвались помимо воли Дуняши из ее стесненной горем души. Старец прервал речь, нахмурился и, подойдя к ней, разозленный и бледный, сурово сказал:
– Вот тебе сказ, девка: эти свои глупости ты брось! Будь тише воды, ниже травы. Смири своего духа лукавого, а не то придется тебе изрядно отведать моей лествицы! – И он с самым недвусмысленным видом помахал четками.
Дуняша в испуге отстранилась и, подавив рыдания, замерла, полная безысходного отчаяния…
А в Петербурге, приехав на другой день к заветному местечку, Николай Андреевич напрасно поджидал Дуняшу.
«Сторожат. Не пустили, – подумал он, в сотый раз проклиная свою горячность и глубоко раскаиваясь, что оскорбил Сергея, что при нем крикнул: „Завтра“. Ей же, голубке моей, сделал хуже!»
Он решил не заезжать к Вострухиным, а приехать на следующий день, надеялся, что, быть может, завтра Дуняше удастся прибежать.
Но и на другой день повторилось то же самое.
Тогда Свияжский, скрепя сердце, заехал в дом Вострухиных в качестве гостя. Федор Антипович встретил его со своим обычным подобострастием.
– А, гость дорогой! Что давно не заглядывали? Скучать мы стали. Я уж и то у его превосходительства спрашивал: здоров ли сынок-то? «Здоров», говорят. Дождались, наконец, праздничка. Мать, встречай гостя!
– Приехал я к вам прощаться, – сказал Свияжский, посидев некоторое время и прислушиваясь, не раздастся ли голосок Дуняши.
– Уезжаете? Да с чего же это вы нас покидаете?