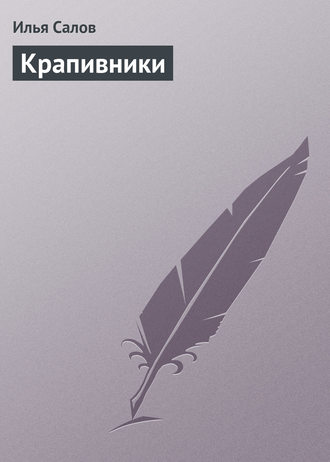 полная версия
полная версияКрапивники
И, обратясь ко мне, он добавил:
– Я за ними пойду, надо же разыскать их, а вы ступайте покуда на пчельник… Я их живо разыщу и тотчас же вернусь!.. Вот черти-то безобразные…
И немного погодя Иван Парфеныч отправился разыскивать пропавших, а я с Аркашкой отправился по направлению к пчельнику. Долго раздавалось по лесу «ау» Ивана Парфеныча; наконец стало долетать все глуше и глуше, а вскоре и совершенно замолкло. Взамен того Аркашка болтал со мною без умолку и, идя рядом со мной, рассказывал мне про свое житье-бытье.
– Как же это в гимназию-то поступил? – спросил я.
– Да так и поступил. Читать, писать я умел, арифметику тоже знал немного. Дай, думаю, попытаю счастья! И пошел…
– Пешком?
– Известно, пешком: где же мне было денег-то взять?..
– А потом что?
– А потом, как только пришел в город, так первым делом разыскал Степана Иваныча.
– Кто это Степан Иваныч?
– Крестный мой, наш колычевский, бывший дворовый. Он теперь в городе портняжничает.
– Ну, рассказывай, рассказывай.
Аркашка снял фуражку и, отерев с лица лот, продолжал:
– Ну вот, разыскал я крестного. Когда я рассказал ему, по какому делу пришел я в город, он взял меня к себе на квартиру и обещал поить и кормить. Он добрый такой, маленько только хмелем зашибается… На другой день я сбегал в гимназию и узнал, что приемные экзамены начнутся седьмого августа. Это объявил мне сам директор, на которого я нечаянно наткнулся. «А тебе зачем это знать?» – спросил он меня. «Как, говорю, зачем. Хочу в первый класс экзамен подержать!» – «А прошение, говорит, ты подавал?» – «Нет, не подавал. Зачем, говорю, подавать, коли я сам тут и сам прошу?» Директор рассмеялся; он тоже добрый такой, ласковый. «Нет, говорит, милый друг, так нельзя: надо прошение подать и документы представить!» Я даже не понял тогда, что такое значит документы. Директор заметил это, потому, видно, что уж очень я глаза вытаращил и рот разинул. «Ты, говорит, знаешь, что такое документы?» – «Нет, не знаю!» Он и начал по пальцам высчитывать. «Надо, говорит, свидетельство о рождении, крещении, звании, о привитии оспы…», да никак все пять пальцев и загнул!.. Я даже оробел. «Откуда же я возьму все это! - проговорил я. – Я весь тут, пришел пешком, бумаг у меня нет никаких; что хотите, то и делайте, а назад я не пойду и бумаг никаких представить не могу, потому что хлопотать за меня некому!» Директор засмеялся, подошло еще человека два-три учителей и тоже засмеялись. «Где же ты остановился?» – спросил директор. «У Степана Иваныча, говорю, у крестного!» Тут учителя пододвинулись ко мне поближе; все они были во фраках с светлыми пуговицами… Смотрю, окружили меня, закинули руки назад под фалдочки и принялись слушатв. «Да ты кто такой?» – спрашивает директор. «Аркашка!» говорю. Опять захохотали. «Это, говорит, твое имя, а нам надо знать твое звание; чтобы начальство удостоверило, кто ты такой, откуда ты…» – «Здешней губернии я, села Колычева», говорю. «Твой отец и мать кто такие?» – спрашивает директор. «Отца у меня нет, говорю, а мамка померла!» Когда я сказал, что у меня нет отца, все словно удивились и переспросили: точно ли нет у меня отца? «Так и нет, говорю: я крапивник!» Как только сказал я это слово, так все даже назад запрокинулись и захохотали во все горло. Так хохотали они минут с пять; наконец директор опомнился первый. «Нет, его, говорит, надо допустить до экзаменов!» – «Допустить, допустить!» – подхватили все. «А документы мы после вытребуем, – заметил директор прямо от себя: – а то он сам ни во веки веков их не добьется!» – «Конечно, где же ему добиться! – подхватили опять учителя. – Крапивник! чего же тут!» – «Я первый раз слышу это название!» – проговорил директор. «И я, и я», – подхватили учителя. «Ну, вот и отлично! – говорю я. – Значит, и мне бог привел открыть учителям кое-что такое, чего они не знали. Так вот знайте, что есть на свете такие дети, у которых нет ни отцов, ни денег, ни документов, ни родных; часто нет даже матерей, как, например, у меня, и которых народ прозвал крапивниками».
– Так и сказал? – спросил я, заинтересованный рассказом.
– Так и сказал; тут уж я осмелился!
– Ай да Аркаша, молодец! Ну что же, опять смеялись?
– Нет, перестали. Тут директор обнял меня одной рукой и сказал: «Ну, хорошо, мальчик: седьмого числа приходи сюда в гимназию в девять часов утра, мы тебя проэкзаменуем, и если познания твои окажутся удовлетворительными, мы тебя примем!» – и даже похлопал меня по спине.
И потом, переведя дух, Аркашка добавил:
– Ну, седьмого пришел я в гимназию, сдал экзамен как следует, и меня приняли в первый класс, а после экзаменов началось настоящее учение.
– Что же, страшно было экзаменоваться-то?
– Ох, не говорите!.. Стоишь, бывало, смотришь на икону да шепчешь про себя: «Мамка, помоги!»
– Чем же ты живешь однако? – спросил я. – Надо было одеться… книг купить…
– Это у меня все в исправности! – совершенно довольным тоном проговорил Аркашка. – У меня все есть: и мундир, и шинель холодная, и брюки, и летняя форма, и книги – вся, значит, амуниция есть.
– Каким же образом ты все это справил?
– Справил, ничего, скоро. Летнюю форму, то есть блузу, панталоны, ремень, кепи и ранец с книгами мне учителя подарили, а зимнюю форму один восьмиклассник справил – богатый он такой и меня полюбил. Купил он мне, значит, сукна и все что нужно, а крестный сшил. За учение я не платил, потому что меня на какой-то счет охлопотали, а потом подружился с одним товарищем, тоже мальчик богатый – в своей семье живет, с ним я уроки вместе учил, ходил к нему часто… Кондиция еще была, вы как думаете! Три рубля в месяц получал и чай вечерний внакладку и с булкой!.. Так и выговаривал, чтобы внакладку и чтобы, значит, булка была беспременно.
– Как кондиция? – удивился я.
– Очень просто! Приготовишку одного арифметике учил…
– Какого приготовишку?
– Из приготовительного класса – их приготовишками называют.
– Так уж ты и уроки давал?
– Еще бы! – подхватил со смехом Аркашка. И вслед за тем, вздохнув, прибавил: – а вот когда крестный запьет, бывало, – ну, тогда плохо приходилось…
– А он запивает?
– Есть тот грех. Человек он и без того бедный, с копейки на копейку перебивается, а как запьет, так и вовсе есть нечего. «Ну, говорит, Аркашка! я все пропил, теперь уж нам с тобой жрать нечего. Ищи, говорит, себе жранья, где хочешь, а на меня покамест не надейся!» Вот тут-то и плохо!.. Пойдешь, бывало, к восьмикласснику или к товарищу, коли застанешь их дома, так ничего, сыт, а коли не застанешь, так и ходишь, бывало, целый день голодный. Раз этак-то трое суток сряду не ел, только и питался одним выговоренным чаем с булкой…
И Аркашка даже вздохнул. Но грустное настроение это продолжалось недолго. Заговорив снова о купленном им ружье и о своем проекте продавать убитую им дичь, он тут же опять развеселился и принялся развивать свои планы.
Так дошли мы до пчельника. Компания тоже не заставила себя долго ждать. Не успели мы с Аркашкой путем отдохнуть, как в соседних кустах послышался говор, а вслед за тем на площадке показались Иван Парфеныч с супругой, Ананий Иваныч с невестой и фельдшер.
– Нашел! Нашел беглецов! – кричал Иван Парфеныч, размахивая рукой. – Нашел, все здесь, всех разыскал!..
– Стоило того бегать и разыскивать! – заметила недовольным тоном Матрена Васильевна.
– Смешное дело! – подхватил фельдшер. – Точно как мы одни дороги на пчельник не нашли бы!..
– Только удовольствию нашему помешали, дяденька! – заметила жеманно Марья Самсоновна.
– Ладно, ладно! рассказывай! – кричал Иван Парфеныч и всех словно на буксире втащил под навес.
При виде Анания Иваныча Аркашка как будто смутился, но когда Ананий Иваныч не ответил на его поклон и гордо, как будто не замечая, прошел мимо него под руку с своей невестой, то мальчик освирепел и метнул на него такой вызывающий и гневный взгляд, заметив который Ананий Иваныч, вероятно, немало бы смутился; но взгляд этот остался незамеченным.
– Вишь, свинья, и кланяться не хочет! – прошептал Аркашка и, весь побледнев, отошел к стороне.
Зато остальная компания, то есть Матрена Васильевна и фельдшер, как только узнали в гимназисте крапивника, так в ту же минуту засыпали его вопросами. Аркашка не замедлил рассказать им все что требовалось, и рассказал так весело и бойко, что невольно произвел эффект я сделался героем минуты. Только один Ананий Иваныч с какой-то ядовитой улыбкой ходил взад и вперед и как будто не обращал даже внимания на болтавшего мальчугана.
– А знаете ли, где я их нашел? – почти вскрикнул Иван Парфейыч, обращаясь ко мне, и кивнул головой на компанию, ходившую с нами за, малиной.
– Где? – спросил я.
– На озере. И знаете, что они делали?
– Не знаю.
– Купа-а-лись! – протянул торжественно Иван Парфеныч и всплеснул руками.
– Как? вместе? – спросил Аркашка и звонко захохотал.
Вопрос этот затронул Анания Иваныча за живое.
– Нет-с, не вместе! – проговорил он, обращаясь к мальчику. – У нас, у необразованных людей, дамы с кавалерами вместе не купаются; может быть, это делается в обществе ученых, а мы пока скромность соблюдаем…
– А напрасно, ей-ей, напрасно! – перебил фельдшер. – Вместе было бы не в пример веселее…
– Подождите, Михаил Михайлович, придет время, – говорил Ананий Иваныч. – Время придет-с, когда будут и все вместе купаться без различия пола… Дайте только прогрессу распространить свой свет – и мы примемся нырять вслед за дамами…
– Нет, этого не будет! – заметила Матрена Васильевна.
– Почему же? – спросил Ананий Иваныч.
– Потому что это даже очень гадко…
– Я, кажется, с своей стороны, – перебила ее Марья Самсоновна, закатывая глаза, – никогда не решусь на этакие вещи!
– Даже и с мужем? – спросил Иван Парфеныч.
– Даже с мужем.
– Ну, это незаконно. За это вы можете очень даже ответить! Посмотрел бы я, как бы это Матрена Васильевна отказала мне в своей компании!.. Я бы посмотрел!.. Н-да-с…
Немного погодя мы все принялись за ужин. Была яичница с ветчиной и малина со сливками. Иван Парфеныч, Ананий Иваныч и фельдшер, значительно подвыпившие, ели мало, зато Аркашка выручал всех. Любо было смотреть, как этот мальчуган, завесивши салфеткой свой мундирчик и припав к сковороде с яичницей, спроваживал в рот одну ложку за другою. Ужин был самый веселый. Подвыпившие, кавалеры болтали без умолку; один анекдот самого скабрезного содержания сменялся другим и, слушая их, дамы краснели, скромно опускали глазки, но все-таки смеялись. Общество было в самом лучшем настроении; фельдшер даже предложил было прогулку по лесу при лунном свете; все предложение это приняли было с восторгом, но Иван Парфеныч разрушил все дело. «Ступай один, коли хочешь, – проговорил он: – а жену я не пущу!» – и фразой этой положил конец поэтическому настроению общества.
Ужин кончился. Матрена Васильевна принялась убирать со стола, а Ананий Иваныч стал собираться домой, для чего и пошел заложить свою тележку. Когда со стола было все убрано, Иван Парфеныч потребовал еще наливки, которая и не замедлила появиться в сопровождении нескольких рюмок; не замедлил прибыть и Ананий Иваныч. Он подъехал на тележке и, привязав лошадь к столбу, вошел под навес.
– Ну, вот и лошадь готова! – проговорил он и начал было прощаться, но Иван Парфеныч удержал его.
– Постой, – проговорил он:– так нельзя. На-ка посошок на дорожку! – И он подал ему рюмку наливки.
– Это можно.
И, взяв рюмку, Ананий Иваныч проговорил, обращаясь к компании:
– Ну-с, до свидания! До свидания, Марья Самсоновна. – До свидания, Ананий Иваныч.
– Право, напрасно, Марья Самсоновна, не хотите со мной ехать; я бы доставил вас аккуратно.
– Нет, уж это подождем, Ананий Иваныч! – проговорила она скромно.
– Поедемте, прошу вас… так прокачу, что прелесть…
– Нет уж, пожалуйста, подождемте, Ананий Иваныч…
– Чего же ждать-то?
– Повенчаемся, тогда и будем кататься сколько угодно…
Ничего не знавший еще про свадьбу, Аркашка, заслышав слова эти, вытаращил глаза.
– Так давайте хоть поцелуемся! – проговорил Ананий Иваныч.
Марья Самсоновна опустила глазки.
– Уж поцеловаться-то можно, полагаю!
– Конечно, можно! – подхватили все.
– Я, право, не знаю… дозволит ли мне долг…
– Долг невесты, – перебил ее Иван Парфеныч; – целовать своего жениха.
– Кажется, первый поцелуй дается только после венчания! – стыдливо заметила Марья Самсоновна.
– Как же вы сейчас в лесу-то целовались? – бухнул фельдшер и захохотал во все горло. Вместе с ним захохотал и Аркашка. Марья Самсоновна вспыхнула.
– Позвольте вам заметить, господин, что этого никогда не было! – проговорила она.
– Нет, было.
– Не было!
– Было-с, при мне… раз двадцать, если не больше! – настаивал фельдшер.
Аркашка захохотал еще громче.
Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: Ананий Иваныч, рассерженный хохотом Аркашки, обругал его паршивым крапивником, побледнел как полотно, заскрипел зубами и, поставив рюмку на стол, бросился было на Аркашку с поднятыми кулаками, как вдруг Аркашка размахнулся… но, как бы опомнившись, как бы испугавшись чего-то, опустил руку.
– Нет, не стану!-проговорил он, дрожа от гнева. – Пожалуй, еще из гимназии исключат!.. Черт-с тобой!.. Но помни, что я когда-нибудь за все заплачу тебе!..
И, не дав Ананию Иванычу времени опомниться, Аркашка бросился бегом с пчельника.
Сцена эта всех поразила.
VII
На следующий день пришел ко мне Аркашка. Так как у мальчугана этого не было пристанища, не было родных, не было даже доброжелательных знакомых, которые приютили бы его, то я и предложил ему на время вакаций поселиться у меня в доме. Аркашка был очень рад пожить у меня. Я отвел ему особую комнатку, предоставил ему полную свободу, и Аркашка зажил припеваючи. С утра до ночи он был на охоте и только часам к одиннадцати вечера, усталый и утомленный, возвращался домой, ужинал, болтал мне во время ужина о своих охотничьих похождениях и затем ложился спать. Однако утомление это нисколько не мешало ему вставать до зари и, засунув в карман кусок хлеба и что-нибудь оставшееся от ужина, снова бежать на охоту. О заданных на время каникул письменных упражнениях с латинского на русский и арифметических загадках (действительно, многие из задач гг. Малинина и Буренина имеют характер загадок) он даже и не думал; дело это откладывая от одного дня до другого и так-таки тем и кончил, что ничего не сделал. К чему все это задается детям, я, откровенно сказать, не понимаю, но думаю, что не с целью досадить хоть чем-нибудь ребенку во время его слишком коротких каникул.
От Аркашки я узнал, между прочим, что Ананий Иваныч все еще продолжает владеть имуществом, оставшимся после смерти Агафьи Степановны, и что на селе ходят слухи, что имущество это переходит в руки какой-то племянницы, о чем уже где-то имеется какая-то бумага. Кто такая была эта племянница и где именно находится бумага – он рассказать мне не мог. Признаюсь, я этому не поверил и пошел справиться о деле этом в колычевское волостное правление. Писаря не было дома, а был только один безграмотный старшина. Его застал я в сенях правления совершенно нагим и обливавшимся из ведра (после сильного похмелья) холодной водой. Тем не менее, однако, его степенство, прифрантившись в суконную поддевку и даже как следует расчесав волосы, весьма обстоятельно рассказал мне, что по делу этому ему ничего не известно, так как Агафья Степановна принадлежала к мещанскому сословию; что действительно в народе ходят слухи о какой-то племяннице или дальней родственнице покойной, живущей где-то далеко; что вряд ли крапивники могут считаться наследниками, так как они не законные дети, а нечто вроде щенков, и в конце концов подтвердил, что Ананий Иваныч и сейчас все еще живет в доме, печати некоторые поломал и кое-что из мелочи продал. С старшиной я больше разговаривать не стал и пошел сообщить мировому о поломанных печатях, а главное – узнать о положении дела. Мировой с щенками крапивников не сравнял; напротив, он был возмущен случившимся и обещал за что-то «выдрать старшине всю бороду». Мировой судья был из числа людей красноречивых. Он вполне согласился, что имущество захвачено Ананием Иванычем вопреки закону, вопреки совести, вопреки гуманности, что обстоятельство это служит бьющим в глаза доказательством грубого самоуправства невежественной массы, но что, к несчастию, о случившемся он в первый раз слышит; что дело это по многочисленности занятий у него совершенно из ума вон вышло (причем даже ударил себя по лбу), но что он сейчас же все поправит!..
И действительно, мировой судья, схватив колокольчик, принялся мотать им во все стороны и приказал вошедшему слуге тотчас же, сию же минуту позвать письмоводителя. Последний явился без замедления и, войдя в комнату, принял почтительную позу. При виде письмоводителя судья первым делом раскричался, расшумелся, а затем принялся допрашивать его, почему он не напомнил ему о деле оставшихся после смерти Агафьи Степановны сирот, но вслед за тем был весьма удивлен, когда письмоводитель объявил ему, что дело это по камере у них значится в числе оконченных.
– Как?! – изумился судья и словно остолбенел, не веря своим ушам.
– Точно так-с, окончено-с. Наследнице выдано свидетельство о пропечатании в сенатских объявлениях публик, и, говорят, она подала уже прошение об утверждении ее в правах наследства-с…
– Кому, куда?
– В окружный суд-с…
– А как же дети-то?
– Чьи-с?
– Да дети Агафьи Степановны?
Письмоводитель улыбнулся и даже как будто застыдился.
– Ведь они не наследники-с…-проговорил он.
– Покажите закон.
Письмоводитель принес десятый том, помуслил пальцы, пошелестел страничками и подал судье книгу, указывая пальцем на 136 статью.
– А вы не знаете, как зовут наследницу? – спросил я, обращаясь к письмоводителю.
Письмоводитель прищурил глаза, закусил нижнюю губу, посмотрел на потолок и, вспомнив имя, проговорил скороговоркой:
– Марьей Самсоновной.
– Она, кажется, замуж выходит за Анания Иваныча?
– Говорят-с! – обрезал письмоводитель и замолчал.
– Хорошо, ступайте! – проговорил судья и, пробежав закон, отдал книгу письмоводителю.
Немного погодя, однако, судья вскочил с кресла, любезно подал мне согнутую кренделем руку и пригласил на балкон пить чай.
На балконе за чайным столом сидела жена судьи в сообществе двух изящно одетых детей и француженки-гувернантки. Представив меня своей супруге, судья рассказал ей суть того дела, которое, по словам его, доставило им удовольствие видеть меня в их доме, и когда рассказ был окончен, у супруги навернулись даже на глазах слезы.
– Боже мой, какое ужасное положение! – проговорила она и, взглянув на детей, прибавила шепотом: – как я счастлива, что мои не из таких!..
И потом, переменив тон, спросила:
– Так вы говорите, что этот несчастный мальчик диких уток стрелять хочет?
– Да, чтобы заработать себе хоть сколько-нибудь денег…
– Бедный, бедный мальчик! Пожалуйста, скажите ему, чтобы он и мне приносил; я много буду покупать у него и буду считать себя счастливою, что хоть косвенным путем помогу ему собрать ту маленькую сумму денег, которая так необходима для него. Нельзя ли сказать ему, чтобы он и рябчиков тоже приносил!.. Мы все так любим рябчиков!..
– Но, мой друг, – возразил судья: – где же возьмет он рябчиков, когда в местности нашей их нет вовсе?..
– Ах, мой ангел! Люди эти преодолевают все, потому что с младенчества они обречены на борьбу с людьми, с общественным мнением, с щекотливостью своего положения и потому nolens-volens [3] привыкают к этой борьбе!.. Это не то что мы, которые при малейшей неудаче раскисаем… Ты этого, мой друг, не смешивай, потому что смешение такое будет просто non sens… [4] Поверь, что мальчик этот разыщет рябчиков!..
Однажды утром вошел ко мне в кабинет Аркашка. Он был в парусинной блузе, подпоясанной ремнем, и с гимназической кепи в руках. На спине у Аркашки был ранец и висело ружье, а подмышкой небольшой узелок, из которого выглядывал, между прочим, обшитый галуном воротник мундирчика.
– Куда это? – спросил я его не без удивления.
– В поход! – ответил он. – Сегодня кончаются каникулы, и завтра приказано явиться в гимназию.
– Неужели же ты пешком пойдешь?
– А то разве подводу нанимать стану!.. Далеко ли здесь до машины-то!..
– И не близко – тридцать верст!..
– Разве это много! Я еще дорогой по стрепетам поохочусь; может, убью, по крайности крестному гостинчик привезу…
Я принялся Аркашку уговаривать пешком не идти, предлагал ему лошадей, но он остался при своем и, все тростя о «гостинце крестному», отверг все мои предложения и начал прощаться.
– Постой, постой, – проговорил я, вспомнив про доставленных мне Аркашкой уток: – я тебе за уток должен.
– Нет, – проговорил он. – Мне стыдно брать с вас… Я жил у вас… пил, ел…
– Говори: сколько?
– Мне стыдно, право…
– Не стыдись и говори. Тебе необходимы деньги.
Аркашка помялся, но, как будто сообразив что-то (по всей вероятности, действительную необходимость в деньгах), вынул из кармана бумажку и объявил, что уток он доставил мне на пять рублей с полтиной.
– А сколько всего заработал ты в лето?. – спросил я его.
– А вот сейчас смекну!
И, обернув бумажку, он сдвинул брови и, посматривая то на бумажку, то на потолок, принялся мысленно считать выручку. Никогда, кажется, не забуду я этого серьезного, собранного личика с надвинутыми бровями и чуть шевелившимися розовыми губками. Так простоял он минуты три, сосчитал, как видно, проверил счет и затем вдруг, изменив серьезный вид на веселый и довольный, сказал с улыбкой:
– Вот сколько: с вашими тридцать восемь рублей сорок пять копеек!
– Отлично,
– Еще бы! – почти вскрикнул Аркашка. – Теперь я богач; теперь, как только приеду в город, так куплю книг, а на остальные деньги ваточную шинель себе сошью, а то в холодной-то зимой не мода! Уж я прошлую зиму щелкал, щелкал зубами-то!..
И, переменив тон, прибавил:
– У меня больше бы денег-то было, да судейша обидела…
– Как так? – удивился я,
– Очень просто! За матерых уток учинила расчет по пятнадцати копеек, а за мелкую дичь по десяти копеек, а я всем продавал матерых по двадцати пяти копеек, а мелких по пятнадцати… Она у меня слишком шесть рублей утянула…
– Вот тебе раз!
– Да… Я было требовать стал, а она мне на это вот что сказала: «Ты, говорит, потише, любезный друг, ты ведь не к мужику в избу зашел. Ты мне еще за то спасибо скажи, что я не донесла на тебя мужу, что я всегда говорила ему за обедом, что он ест не диких уток, а русских, а то бы тебе досталось на орехи!.. Ведь ты, говорит, до Петрова дня еще стрелять-то начал, а ведь за это по уставу о наказаниях виновные штрафу подвергаются! Вот что, говорит, любезный друг, а ведь ты знаешь, что мой муж, а твой судья законами шутить не любит: он насчет законов очень строг!» Ну, я и повернул назад оглоблями.
И, помолчав немного, он спросил:
– А что, как насчет мамкинова дома и имущества?
– Плохо, брат.
– Плохо? – переспросил Аркашка.
– Нехорошо.
– Ничего не достанется?
– Ничего: законная наследница нашлась – теперешняя невеста Анания Иваныча.
– Ну, так и запишем! А жаль: для нас было строилось все это!..
И затем, как будто вдруг что-то вспомнив, он проговорил:
– Однако пора! А то, чего доброго, на поезд опоздаешь!
– А перевод и задачи сделал?
– Нет…
– Как же быть-то?
– Ну, чего там… спишу у кого-нибудь – и вся недолга! А то еще во время каникул да задачами заниматься!.. Была нужда!
Мы учинили расчет, а немного погодя. Аркашка шел уже весело по дороге, ведущей к вокзалу (или визгалу, как называют его мужики). Долго еще виднелась фигурка Аркашки, навьюченная ранцем, узелком и ружьем и увенчанная гимназическим кепи с загнутым кверху козырьком. Наконец фигурка эта завернула за небольшую рощицу и скрылась…
Но я ничего не сказал еще про Ванятку. Он умер вскоре после смерти матери, умер от горячки, безо всякого надзора, безо всякой помощи, на той самой печке у просвирни, на которую положили его после похорон его матери, Агафьи Степановны. Смерть его осталась бы, пожалуй, долго не замеченною, если бы просвирне не понадобились сушившиеся на той же печке теплые шерстяные чулки; доставая их, старуха кубарем от испуга выбежала на улицу и давай кричать: «Караул!»
Для Ванятки была разрыта могила матери, и гробик его поставлен к ее ногам. Как при жизни лежал он свернувшись у ног ее, так лежит и теперь, только тщательно вытянутый и выпрямленный обряжавшими его старухами и засыпанный одной и той же с матерью землей!









