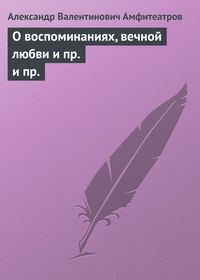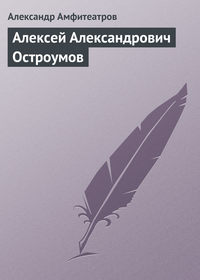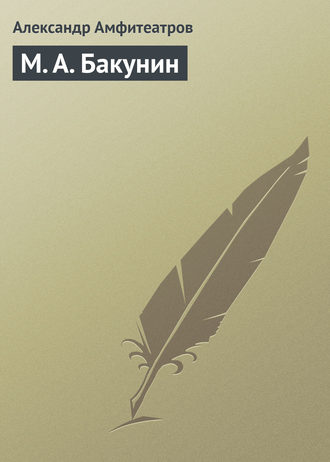 полная версия
полная версияМ. А. Бакунин
Дворянские деньги были легкие и легко перемещались, и счеты по ним были легкие. В дворянской эпохе множество денежных проделок, не позволительных в современном буржуазном обществе, не только обычно, но и юридически, уголовно, считались не более, как милыми товарищескими шутками… Почитайте, – первый и ближайший общедоступный пример! – хоть воспоминания Гончарова о кредитных операциях симбирского губернатора Углицкого, который, однако, по своему времени был очень порядочным человеком, считался и сам себя считал джентльменом. Легкость и двусмысленность кредита рождали и легкое, и двусмысленное к нему отношение… В этом случае Бакунин был лишь типическое и балованное дитя своей родной среды.
Что касается последних лет Бакунина, то, право, когда видишь грошовые суммы, в которых нуждался великий революционер, начинаешь негодовать не на его мешкотность и неаккуратность, а на милое отечество, допускающее, чтобы люди, с заслугами Бакунина, в шестьдесят лет, после стольких годов самоотверженной деятельности для общего блага, дрожали, предчувствуя приход судебного пристава, не могли переехать в дилижансе из города в соседний город, за неимением десятка свободных франков. Что может быть ужаснее писем Антонины, жены Бакунина, к Огареву из Локарно от февраля 1872 года? Это – полная нищета, с выразительным post scriptum'oм: «Простите, что посылаю письмо не франкированным, в эту минуту мы a la lettre sans sou»[12]. Эх, русские люди, русские люди!.. Кого из пророков своих вы не морили голодом, не томили нуждою, не травили собачьею, беспричинною злостью, не побивали камнями – и, когда камни ваши оставляли синяки, о ком не говорили вы, показывая укоризненными перстами: «Смотрите! Хорош ваш святой! он весь – в черных пятнах!..» Вывел из тяжелого положения Бакунина, конечно, не русский капитал, а помощь итальянского почитателя, социалиста Кафьеро. Он купил для Бакунина домик на Lago Maggiore и предоставил это жилище старику с семьею в пожизненное владение. Что касается русских, их участие к Бакунину выразилось только тем, что его постарались рассорить с Кафьеро, доказывая последнему, будто собственность в руках Бакунина недостаточно служит целям социальной революции. За Бакуниным вечно все считали и усчитывали его расходы, долги, обязательства и всякие минусы. А все плюсы, вносившиеся им в международную жизнь, принимались равнодушно и чуть не свысока, как нечто должное, как своего рода оброк, что ли. А вот – оборотная сторона медали: сам Бакунин в роли кредитора, рассказывает Дебогорий-Мокриевич.
«Он потребовал, чтобы я непременно показал ему свой кошелек. Напрасно я старался убедить его, что денег у меня достаточно, и я в них не нуждаюсь. Он все-таки настоял на своем. До требуемого количества не хватало тридцати с небольшим франков.
– Я остановлюсь в Богемии. Там у меня есть приятели, у которых я могу взять деньги, сколько понадобится, – объяснял я.
– Ну-ну, рассказывай! – возражал Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, сопя, отсчитал тридцать с лишним франков и передал мне.
Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако я был принужден их взять.
– Хорошо, по приезде в Россию я вышлю, – проговорил я. Но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался.
– Кому? Мне вышлешь? – спросил, наконец, он, потом добавил: – Это я даю тебе не свои деньги.
– Кому же их переслать, в таком случае?
– Большой ты собственник! Да отдай их на русские дела, если уже хочешь непременно отдать».
Эта сцена произошла при первом знакомстве Бакунина с Дебогорием-Мокриевичем и в том самом году, когда Антонина Бакунина посылала письма нефранкированными, будучи sans sou a la lettre. Любопытная подробность одной из таких посылок: 14 ноября 1871 года Бакунин пишет Огареву: «Второй день, как перестали есть мясо и скоро останемся без свечей и без дров… Пожалуйста, не говори об этом, чтобы Женева не заболтала… Не франкирую этого письма, а письмо к О-ову ты передай. Он такой же нищий, как и я, – значит, нефранкированных писем ему посылать нельзя». Подумать только, что Бакунин не имел возможности выписывать необходимых ему политических газет и просил Герцена не обращать использованных журналов на какое-нибудь «неприличное употребление», но присылать ему, Бакунину!.. Все такие подробности унизительной нужды буржуазное общество забыло о Бакунине, но грошовые долги Бакунина помнит крепко, вместе с анекдотами о неимоверном количестве чая, который поглощал Михаил Александрович. Чаепийца он был, действительно, ужасающий, и его post scriptum'ы о присылке чая в письмах к Огареву – поистине, комический элемент в тяжелой житейской драме. И каждый post scriptum непременно, с достоинством, требует, чтобы чай был выслан наложенным платежом, contre remboursement[13], хотя Огарев неизменно посылал чайное сокровище в подарок, зная, что при наложенном платеже Бакунин никогда не справится с деньгами, чтобы выкупить пакет с почты. Бакунин, опять-таки с неизменным достоинством, приятно удивлялся подарку своего «Аги», а письма через два снова взывал: «Пришли два фунта чаю contre remboursement…» В этом, конечно, много «Большой Лизы»! Но улыбка, возбуждаемая чайными томлениями Бакунина, быстро гаснет. Ее убивает опять то же самое соображение: однако этот шестидесятилетний старик, отдавший делу русской и европейской свободы сорок лет жизни, пожертвовавший революции всеми буржуазными благами, состоянием, сословием, положением, родиною, на старости лет оставлен был признательными соотечественниками в таком блестящем положении, что должен был побираться у приятелей даже для возможности обеспечить себе необходимый при умственной работе студенческий стакан чаю!.. Нет, повторяю еще раз: когда изучаешь «смешные» и «порочные» стороны Бакунина, не за Бакунина становится стыдно и обидно, – его только жаль бесконечно, со всем его огромным удалым ребячеством, взрослым детством гениальной натуры, беспомощным богатырством и богатырскою беспомощностью. Его только жаль, а негодование и отвращение достаются русскому образованному обществу, что губило, губит и долго еще губить будет таких Бакуниных своим равнодушным предательством: в мире – нуждою без отзыва, помощи и кредита, а на войне – фразистым революционерством в перчатках, за декламацией и посулами которого таится пустота повапленного гроба, пустота – хоть шаром покати. Бакунин умер в Берне, в немецкой свободолюбивой семье знаменитого физиолога Фохта, на руках последнего своего ученика и друга, итальянского чернорабочего, зарыт в швейцарскую землю, и немка Рейхель, видевшая в нем идеал человека, приняла на себя заботы о его могиле… Таким образом, и кончина его вышла такою же международною, как вся жизнь. Что касается родины, она отозвалась на смерть Бакунина лишь несколькими скверными некрологическими анекдотами, утверждавшими уже распространенные о нем лжи и сеявшими новые, скверные клеветы. Положительное отношение к памяти Бакунина спотыкалось о высокий порог цензуры; честная печать молчала с завязанным ртом, бесчестная бахвалилась, будто она с Бакуниным никогда серьезно не считалась, не питала к нему никакого уважения (как якобы она уважала Герцена), ругалась и пыталась представить глазам общества великого трибуна – сегодня мошенником, завтра – сумасшедшим, а послезавтра – не то юродивым, – не то просто каким-то шутом от революции. Подобною раскраскою бакунинской репутации занимались не одни Катковы, – не удерживался от соблазна, даже при жизни М. А., – например, и глава славянофильства, И. С. Аксаков, печально оправдав скептическую прозорливость о нем Бакунина в старинной полемике шестидесятых годов. Только в последние годы, когда революционные веяния хоть немного ослабили узы русской книге, стала возможна реабилитация Бакунина и беспристрастная критическая оценка его могучей фигуры и деятельности. Да и то, драгомановская биография Бакунина (далеко не снисходительная к покойному революционеру!), равно как и собрание писем его, недавно подверглись конфискации за строки, касающиеся императора Александра II.
Я далек от самонадеянной мысли, что мой беглый очерк явится апологией, вносящею новые взгляды на личность Бакунина, и осветит во весь рост его гигантскую историческую роль. Для этого следовало бы сделать обширное исследование демократической бакунинской доктрины, с ее последовательным ростом от Гегеля к позитивистам, от оправдания николаевщины к философским мыслям Жюля Елизара, сложившим compendium[14] германской социальной революции, от национал-социалистических тенденций к бешеной вражде с государственным социализмом, от расового феодализма к интернационализму, от Маркса к бунтарству и анархическому «творчеству разрушением». Заглавие моего очерка показывает, что я имел в виду говорить с публикою о Бакунине, а не о бакунизме. Эту вторую задачу я постараюсь исполнить отдельно. В этом же первом наброске я старался лишь обрисовать фигуру Бакунина, как представителя того могучего духа, того святого беспокойства, избранные носители которых, задыхаясь в тесных русских рамках, – искони привыкли либо расшибать свои удалые головы о железные решетки, либо, прорвавшись сквозь их сеть, из полона на волю, превращаться в граждан всего мира, делать историю всего мира, становиться необходимыми всему миру. Бакунин – седовласый Мцыри, познавший мучительный восторг революционной бури; Бакунин – Стенька Разин, предложенный Европе в перелицовке на западные нравы и в переводе на язык германской философии; Бакунин – гегелианский гелертер, кончивший жизнь отрицанием науки, если она – не наука бунта и топора, – несомненно самый типический и грозный из всех русских буревестников, свиставших своими черными крылами над буржуазною Европою XIX века. Бакунин сделал в этой буржуазной Европе несколько революций, правда, разрешившихся лишь в буржуазные же демократии, но сами революционеры, в рядах которых он был солдатом или вождем, боялись его, чувствуя в нем существо иной силы и высшего бурного духа. Известна фраза Коссидьера, парижского революционного префекта в 1848 году, что Бакунин неоценим в первый день революции, а во второй день его надо расстрелять. Герцен, от имени Бакунина, острил, что Коссидьер тоже человек неоценимый для революции – только его следует расстрелять накануне ее первого дня. Немцы, не исключая гениального Маркса, не исключая влюбленного в Бакунина Руге, – в лучшем случае, – терпели русского революционера через силу, в большинстве же откровенно его ненавидели и в конце концов, – мы говорили уже, – по докладу Утина, выжили и выгнали «Старца горы» из Интернационала. Но любопытно, что, изгнав Бакунина, – притом с большим трудом, при резком протесте весьма численного большинства, образовавшего затем Юрскую Конфедерацию, – выгнав Бакунина, Интернационал и сам не замедлил распасться и разложиться, точно он утратил свой природный символ, свою международную душу. Русские революционеры-западники, лондонские изгнанники, тоже боялись Бакунина. Огарев понимал его лучше и любил больше, но Герцен, чем дальше жил, тем дальше и подозрительнее отходил от Бакунина. Его умеренному полусоциалистическому мировоззрению и эстетической натуре культурного западника (по воспитанию и образу жизни, – в образе же мыслей Герцена мелькали часто, если не славянофильские, то, во всяком случае, славистские настроения) – была втайне страшна буря бакунинского Sturm und Drang'a[15]. Ведь Бакунин, как смерч разрушительный, объявлял войну уже не династиям, не сословиям, не классам, но всему двадцативековому складу европейской цивилизации. Польские революционеры, за дело которых Бакунин стоял горою, ради которых он увлек Герцена и Огарева в агитацию, погубившую и распространение «Колокола», пришли в ужас, прислушавшись к неумолимой логике крайностей, как излагал им Бакунин собственное их будущее, во время шведской экспедиции. Домонтович открыто заявил, что если надо выбирать между императорским правительством и теми демократическими формами, в каких стремятся восстановить самостоятельность Польши ее русские друзья, с Бакуниным во главе, то он высказывается за сохранение деспотизма. «Потому что, – говорили шляхтичи, – деспотизму когда-нибудь конец будет, и тогда мы устроимся, как нам надо, а ваш перестрой народ взять назад уже не позволит». Таким образом, мы видим, что Бакунин в активной революции был, в сущности, совершенно одинок и, в полном смысле слова, один в поле воин. Быть может, одиночество и придавало ему, как Ибсенову Штокману, ту сокрушающую силу, что была неотъемлемым и основным признаком его революционного апостольства. Свободный и одинокий, ринулся он – «буревестник, черной молнии подобный» – в жизнь, требующую перестроя, и прошел ее, как ниспровергающий смерч. Есть люда, для кого всякое настоящее мира тесно, как тюрьма. Бакунин, по смерчевой натуре своей, самый яркий и могущественный пример их, ломающих тесное настоящее для просторного будущего. Он задыхался в России, – бросился в славянство, – тесно стало в славянских рамках, – понесся смерчем по германской демократии, – поднял вихри Лиона, Барцелоны и Болоньи, – мало! мало! – буйство фантазии и неукоротимый энтузиазм убеждения громоздят пред ним видение международной анархии, идеал безгосударственного свободного, индивидуалистического самоуправления, апокалипсис человека, восторжествовавшего над проклятием первородного греха, победившего рабский труд в поте лица, упразднившего тернии и волчцы, насмешливо обещанные человечеству вместо хлеба…
– Скажи, Бакунин, – спросил однажды Рейхель, – ну а если исполнится все, чего мы с тобою желаем, что же – тогда?
– Тогда? Бакунин нахмурился.
– Тогда я опрокину все… и начнем сызнова!
За подлинность этого разговора трудно ручаться. Может быть, он плод легенды, но не невероятен и в действительности. По крайней мере, он вполне в духе Бакунина и хорошо выражает вихрь, его одухотворявший. Разбивать и опрокидывать – природа смерчей и вихрей. Они не могут не разбивать, должны опрокидывать, пока и не разобьются и не опрокинутся сами. И, конечно, Бакунин – этот Фауст революции – не остановился бы, удовлетворенный, ни на одном из ее существующих мгновений. Строя новый мир разрушением старого, он шел бы – да и шел – все вперед и вперед, пока не встретил на пути роковую соперницу своему смерчу – еще более могучую обновительницу мира, еще более неутомимую строительницу разрушением, – Смерть. Словно завидуя славе Бакунина, она не дала ему чести погибнуть в бою на болонской баррикаде. 6-го июля 1876 года она подкралась к нему, как разбойник, задушила и опрокинула в бернскую могилу.
1906
Примечания
1
Спотыканий, неверных шагов (фр.)
2
Я так хочу, так велю (лат.)
3
Слова учителя (лат.)
4
Вниз, на понижение (фр.)
5
Хорошая мина при плохой игре (фр.)
6
«Мы не нашли наше согласие в божественном Проведении, и это нас утешает» (фр.)
7
Первый между равными (лат.)
8
младшие боги (лат.)
9
Платон мне друг, но больший друг – истина (лат.)
10
вопрос чести (фр.)
11
Удовольствие от уничтожения также творческие желания (нем.)
12
в прямом смысле без единого су (фр.)
13
Наложенный платеж (фр.)
14
краткий очерк (лат.)
15
Буря и натиск (нем.)