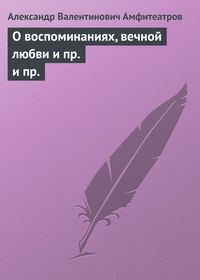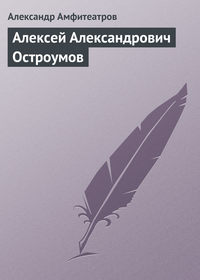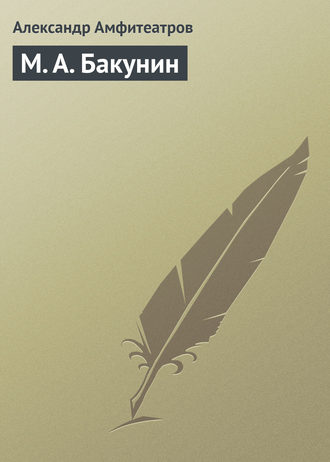 полная версия
полная версияМ. А. Бакунин
«Гамлет Щигровского уезда», злая сатира Тургенева на гегелианскую интеллигенцию сороковых годов, ядовитейшим образом изобличил пустоту, ничтожество и даже прямой вред для даровитой индивидуальности пресловутых «кружков in der Moskau». Сколько можно судить по отношениям, возникавшим из недр кружков этих, даже для таких крупных людей, как Белинский, Бакунин, Грановский, Герцен и пр., образовательная и воспитательная польза их была, действительно, с привкусом большой горечи, которая рано или поздно отравляла и разрушала пылкие шиллеровские дружбы, установляя взамен очень скептически натянутые и подозрительные отношения, не далекие от ненависти Лежнева к Рудину. Бакунин, именно как Рудин, был блистательный оратор, и неудивительно, что в «кружке», для которого красноречие есть необходимый цемент, он должен был играть неизменно первую роль, даже в присутствии таких ярких людей, как Белинский или Герцен. Но у него был и рудинский талант утомлять своих друзей и отталкивать от себя порывистыми крайностями своих увлечений. На заре юности у Бакунина был таким «скоропалительным» другом и врагом – Белинский, на закате лет – Нечаев. Ссоры выходили, обыкновенно, из-за типической русской, а в особенности кружковой привычки – входить, что называется, в калошах в чужую душу. На этом построился скандал столкновения между Бакуниным и Катковым. Белинский разошелся с Бакуниным за властолюбивую привычку опекать его идеалистическое мировоззрение и поверять твердость в оном высокопарными гегелианскими речами.
«Любезный Бакунин, – однажды сказал ему Белинский, – о Боге, об искусстве можно рассуждать с философской точки зрения, но о достоинстве холодной телятины должно говорить просто».
Ссора с Нечаевым, быть может, была единственною из «дружеских» ссор, в которой не Бакунин был причиною разрыва и твердо взял на себя не только его инициативу, но даже усердно писал письма всем друзьям и знакомым, предупреждая их против Нечаева, как скоро последний обнаружился пред старым революционером во всю величину своего аморального фанатизма. Известно, что Нечаев не постеснялся украсть у Бакунина несколько писем – с целью нравственно шантажировать его какими-то в них уликами… Этого поступка не вынес старик – тем более, что мы видели: немного раньше он был так влюблен в Нечаева, что, не колеблясь, шел к нему в «Матрены». И за всем тем, разочаровавшись в своем «боге» как в человеке, Бакунин не перестал уважать Нечаева как на редкость талантливого и энергического революционера. Его испугала и смутила огромная доля иезуитства и червонновалетства, которою, как коконом каким-то, собирался обволочь революционную агитацию Нечаев, – что очень тонко, к слову сказать, подметил за последним в «Бесах» Достоевский. И старый Бакунин попятился от молодого Нечаева в суеверном испуге, именно, как от беса какого-нибудь. Но и пятясь, твердил убежденно, что, конечно, бес – черен и вязаться с ним порядочному человеку опасно и не следует, но – по своему бесовскому амплуа – он молодец, лучше чего не найти. Нет-нет, когда Бакунин в качестве «Матрены» выдавал Нечаеву обязательство фабриковать по его приказанию фальшивые бумажки, он не предполагал, что подписывает в этом документе программу практической работы… Кстати, отметим: когда флорентийский посол русского двора Киселев, чтобы компрометировать Бакунина, проживавшего тогда в Неаполе, распространил слух именно о его прикосновенности к шайке фальшивомонетчиков, которая с замечательным успехом работала на юге Италии и почиталась в общественном мнении революционною, Бакунин обиделся жестоко. Он даже думал вызвать на дуэль неаполитанского префекта, маркиза Гвалтерию: именно через него шла гадкая сплетня. Революционер, прошедший от глубины монархического консерватизма все стадии освободительного учения и движения и увенчавший свой путь торжественным гимном анархии, творец и учитель анархизма, Бакунин, и к шестидесяти годам своим, не изжил, однако, привычек и взглядов юношеского идеализма. Сам себя Бакунин почитал рьяным и глубоким реалистом, а в одном письме 1869 года заявляет даже, что он не знает ничего «подлее и грязнее идеалистов» и, чем больше живет, тем больше в том убеждается. Но пережитки Гегеля в смеси с романтикою Шеллинга, которой Бакунин тоже отдал дань в свое время, всплывали в Бакунине курьезными разладами с деятельностью очень часто и непроизвольно, так что по большей части он их сам не замечал. Еще в 1862 году он способен был блуждать целую ночь с приятелем по улицам Парижа, рассуждая о «личном Боге» и признаваясь, что имеет в душе веру к Нему…
Раньше, в гегелианской своей молодости, он был на этот счет настолько силен и крепок, что Белинский приписывал влиянию Бакунина свою религиозность в петербургский период своей деятельности. Даже в 1870 году Бакунин, в полосу большой нужды и вообще трудных обстоятельств, способен оказался прорваться странным в устах революционера и позитивиста восклицанием, что «nous avons mis notre confiance dans la providence divine et cela nous console»[6]. Правда, сказано это на французском языке, который в русском обиходе Бакунин почитал признаком преднамеренной лжи и бранил за то сантиментальные французские письма Грановского.
Немного русских людей, работавших на культурные цели, умели обогнуть своею деятельностью такую колоссальную дугу идей и пройти такую длинную эволюцию социальности, как выпало на долю Бакунина. В одном из писем своих он уверяет, что был революционером с тех пор, как сам себя помнит. М. П. Драгоманов уличает его: это неправда – в 1835–1839 годах гегелианец Бакунин был убежденным царистом и влиятельным пропагандистом царизма («Бородинская годовщина» Белинского). Любопытно, что остатками «смутного царизма» однажды, уже в шестидесятых годах, попрекнул Бакунина Герцен. Сорок лет спустя, когда прах Бакунина опустили в могилу на кладбище в Берне, имя его было самым передовым символом человеческой свободы: от «бакунизма» как беспредельной воли самоуправляемой личности, как от аморфной анархии, отстали решительно все либеральные, социалистические и революционные учения и партии, да, в большинстве, продолжают отставать и до наших дней.
Был ли на всем протяжении этой эволюции хоть один момент, когда Бакунин кривил душою, был неискренним? Ни один факт в его биографии, ни единое слово в строках его сочинений и писем, ни единая мысль, прозрачная между строками его интимных излияний, не дают нам ни малейшего права на подобные подозрения. Некогда Белинский упрекал Бакунина, что он любит «не людей, но идеи». Таким прошел он и всю жизнь свою. У нас в России, в так называемом интеллигентном, но, в сущности, полуобразованном обществе, слово «логика» не в почете, пользуется страшною и чересчур возвышенною репутацией «сухой материи» и менее всего способна сочетаться в воображении многих с такою, казалось бы, безалаберною житейски фигурою, как Бакунин. На самом же деле, в истории русской культуры maximum способности к последовательно логическому мышлению и к логической диалектике являли собою именно фигуры, наименее подававшие к тому надежды своею житейскою внешностью: Бакунин, Владимир Соловьев. Смелостью логической гимнастики, охотою идти до корня и смотреть в корень Бакунин далеко оставил за собою все логические и диалектические умы современного ему культурного движения. Он был, поистине, бесстрашен пред лицом сознанных и проверенных логическим рассуждением ошибок; поистине велик способностью
Сжечь все, чему поклонялся,Поклониться всему, что сжигал, —как скоро новая ступень социальной эволюции открывала его неугомонно движущемуся вперед духу, – духу лермонтовского «Мцыри», – новые горизонты с новыми звездами, новыми мирами…
Драгоманов замечательно удачно выбрал свой эпиграф к биографии Бакунина – из письма Белинского от 7 ноября 1842 года: «Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки, – это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа». Нельзя было лучше угадать Бакунина, чем угадал Белинский. Бакунин в течение всей своей жизни не знал минуты застоя. Он, в буквальном смысле слова, не имел времени стариться и умер шестидесятилетним юношею, стоя далеко впереди не только своих ровесников, но и многих преемников, – «гражданином грядущих поколений». Растеряв зубы в шлиссельбургской цинге, измученный крепостями и Сибирью, явился он после девятилетнего погребения заживо в Лондон к Герцену и Огареву и в революционном их трио оказался наиболее юным, всего ближе и понятливее к молодежи революционного века. Замечательно в этом отношении письмо Бакунина к Герцену в 1867 году с о. Искии о брошюре Серно-Соловьевича «Unsere Angelegenheiten», которая очень оскорбила Александра Ивановича и толкнула его к резкому и брюзжащему обобщению, по Серно-Соловьевичу, всей революционной молодежи. По глубине мысли и чувства современности, по ясности самоопределения в действительности и провидения в наступающее поколение, простодушная «Большая Лиза» оказалась гораздо сильнее на этот раз, чем гениально-остроумный и несравненно изящный в анализе текущих явлений знаменитый ее товарищ. Никто из русских деятелей не умел так свежо донести до могилы свою молодость, как Бакунин, никто не умел так тонко, глубоко и вровень с собою понимать молодежь (опять вспоминаю Дебогория-Мокриевича). А отсюда следует и объясняется и тот факт, что никто не умел и сильнее действовать на молодежь, захватывая ее под свое обаяние равенством старшего, товариществовать с нею, «приходя в ее среду, как primus inter pares»[7]. «Друг мой! – вырывается у Бакунина трогательное обращение к Огареву в письме 1869 года, – мы старики, поэтому мы должны быть умны: у нас нет более юношеского обаяния. Но зато есть ум, есть опыт, есть знание людей. Все это мы должны употреблять на служение делу». Какую мощную роль и силу выделял Бакунин на долю «юношеского обаяния», это лучше всего показывает его готовность отойти на второй план революции и стать в подчиненные отношения, как скоро на сцену выступил энергичным демоном века С. Г. Нечаев. Бакунина часто упрекали неразборчивостью в людях. Однако умел же он классифицировать свои симпатии настолько, чтобы возложить на лоно свое молодую деятельную силу, как Нечаев, но более чем холодно, с яркою враждебностью встретить «бабьего пророка», как звал он Утина. К последнему относится вряд ли не самое суровое из всех слов Бакунина, сказанных по адресу младших его двигателей революции. «Утина надо непременно уничтожить. Он самолюбиво злостно мешается во все, и, сколько может, мешает всему. А у него есть деньги и бабы». Бакунин – один из немногих исторических талантов России, умевших до седых волос сохраниться от надменного общественного предрассудка, что «яйца курицу не учат», отравившего своим ядом последние годы даже таких светлых умов, как Герцен и Тургенев, не говоря уже о сопряженных с ними dii minores[8]. Напротив, чем старше становился Бакунин, тем моложе общество его окружало, тем юнее была его публика и товарищество. Последнее десятилетие своей жизни Бакунин возится почти исключительно с юнцами, уча их революции словом, делом, статьями, прокламациями, речами, сочиняя кодексы и уставы новых организаций, слагая международные союзы, партии, фракции, конспирации. Этот громадный и знаменитый человек никогда не гнался за престижем «старшего» и даже с гимназистами держал себя так, как будто он им ровня. Вот член бакунинского символа веры, которым старик, на 56-м году жизни, выразил свои взгляды на то, как старое старится, а молодое растет. «Наша цель с тобою – революция. Зачем спрашиваешь, увидим ли мы ее или не увидим. Этого никто из нас не отгадает. Да ведь если и увидим, Огарев, нам с тобою немного будет личного утешения, – другие люди, новые, сильные, молодые, – разумеется, не Утины, – сотрут нас с лица земли, сделав нас бесполезными. Ну мы и отдадим им тогда книги в руки. Пусть себе делают, а мы ляжем и заснем молодецким сном непробудимым». Бакунин был великий мастер забывать прошлое: воистину он «оставлял мертвым хоронить своих мертвецов».
Именно так почти дословно и заключил Бакунин свою мастерскую, хотя страшно суровую, характеристику Грановского в плутарховой параллели с Н. В. Станкевичем и далеко не к выгоде первого. «Перед гигантом Станкевичем Грановский был изящный маленький человек, не более. Я всегда чувствовал его тесноту и никогда не чувствовал к нему симпатии. Письма его насчет Герцена столько же глупы, сколько отвратительны. Похороните его, друзья: он вас не стоит. Будет одною пустою тенью в памяти менее». Довольно равнодушный не только к мертвецам, но и к людям настоящего, интересным ему лишь постольку, поскольку они ему годились как политические орудия, Бакунин любил жить исключительно с людьми того будущего, на которое он работал сам и учил работать свою «деклассированную молодежь». С своей стороны молодежь крепко любила своего вечно юного деда и не выдала его памяти даже Герцену, чей очерк «М. А. Бакунин и польское дело», при всем остроумии и верности многих характеристических черт, страдает высокомерием тона и близоруким непониманием европейской роли Бакунина. Герцен – незабвенно великое имя русской революции, в ней его значение, по крайней мере, непосредственное, было гораздо выше и действительнее бакунинского, но Бакунин принадлежал революции не столько русской, сколько международно-европейской. «Ты только русский, а я интернационал!» – с гордостью пишет он Огареву по поводу неудачной коммунистической революции в Лионе, мало того затронувшей. В этом европейском своем значении Бакунин, конечно, фигура несравненно более крупная и, так сказать, более историческая, чем А. И. Герцен, хотя и превосходивший его и талантами, и литературного удачею. «Будущие историки революционного дела в России и Испании, в Швеции и Италии, во Франции, Германии и Польше найдут руку Бакунина повсюду. Недаром более сведущие реакционеры называли его „Старцем горы“, которого воля в одно время совершалась в Кордове и Бактре».
В своей знаменитой речи о Пушкине Достоевский положил блестящее начало несколько хвастливой, но и во многом верной теории о русской «всечеловечности», о космополитической способности русских жить чувствами, сливаться с интересами, ощущать биение общего пульса решительно со всеми народами мира, о нашем таланте отрешаться от национальности для гражданства во вселенной, о жажде бежать от цивилизованной государственности в недра свободного человечества и т. д. О Бакунине в то время не принято было громко разговаривать, но нет никакого сомнения, что для иллюстрации своих положений Достоевский не мог бы желать более типической и точной фигуры всечеловека и странника в мире сем, как великий «Старец горы». Достоевский долго и подробно говорил о пушкинском Алеко, неудачно ушедшем от ненавистного петербургского общества искать свободы и душевного мира в цыганском таборе. Так вот – Бакунин – это Алеко, которому удалось его бегство. В его письмах, статьях и даже в первой речи о Польше на парижском банкете 29 ноября 1847 года, стоившей ему высылки из Франции, звучат уже мотивы «скитальчества». «Лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, – патриархальной, так сказать, – которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено…» Эти строки звучат, как прозаическое переложение монолога Алеко, обращенного к новорожденному сыну, как рифмованная скорбь «Измаил-бея», как вопль пленного Мцыри, что нет ему воли – «глазами тучи следить, руками молнии ловить…» Достоевскому, в бакунинском примере, можно было бы уступить даже и ту сомнительную часть его учения, в которой он призывал «гордых людей» к «смирению». Потому что, если бегство от цивилизации, не удавшееся гордому Алеко, блистательно удалось Бакунину, то, конечно, в этом обстоятельстве немалую роль сыграло именно то условие, что Бакунин был уже нисколько не гордый человек, но, напротив, удивительно одаренный талантом снисхождения, терпимости и приспособляемости к людям. Он умел грешить сам, умел и понимать чужой грех и слабость. Здесь опять надо вернуться к вопросу о неразборчивости в выборе знакомых и сотрудников, которою так часто попрекал Бакунина Герцен. К слову сказать, это – попреки, – даже в лучшем случае, – кривого слепому. Александр Иванович имел слабость почитать себя великим знатоком человеков, в действительности же, на каждом шагу попадал впросак и провалы не хуже бакунинских. На честности и доверчивости отношений Герцен ловился с необычайною легкостью многими «честными Яго». Стоит вспомнить его откровенности перед Чичериным, который потом злобно и ехидно высмеял Герцена за «темперамент». Блистательные характеристики Грановского, Станкевича, Маркса, самого Герцена, Нечаева, оставленные Бакуниным в письмах, показывают его не только не слепым наблюдателем мира сего, а, напротив, вдумчивым психологом-аналитиком, необычайно тонким, острым и метким. О смелости наблюдения нечего и говорить. Рассмотреть в Грановском сквозь окружающий его розовый туман идолопоклонства «изящного маленького человека, не более» – не в состоянии был бы нравственный слепыш, каким Герцен изобразил «Большую Лизу». Не менее оригинальна и замечательна оценка Бакуниным декабристов как чересчур превозвышенных репутацией страдания дворян-либералов, среди которых истинно-революционною и демократическою целью задавался один Пестель, за то и не любимый товарищами. Нет, людей Бакунин умел понимать и разбирать, но, поняв и разобрав, он не брезговал ими с высоты барского «чистюльства», если находил порочные пятна, он все-таки не питал предубеждения к грешнику, потому что сам был «рослый грешник» (выражение Тургенева) и собственным чутьем и опытом знал слишком хорошо, что те грехи и грешки против буржуазной нравственности, которыми люди имеют обыкновение унижать друг друга, нимало не препятствуют героям быть героями и мученикам мучениками. В Бакунине было больше Дантона (схожего с ним и физически), чем Робеспьера или Сен-Жюста. Он любил человека в лучших проявлениях и терпеливо закрывал глаза на черную половину. Любил детей Ормузда, махнув рукою на частицу в них Ариманова зла. «Мрочковский засвидетельствует, что с тех пор как он меня знает, я не изменил никому, а мне изменяли часто, и что я бросал человека только тогда, когда, истощив все зависящие от меня средства для того, чтобы сохранить его союз и дружбу, убеждался окончательно в невозможности их сохранить. С Нечаевым я был долготерпелив более, чем с кем-либо. Мне страшно не хотелось разрывать с ним союза, потому что этот человек одарен удивительною энергией». И когда Нечаев был арестован и выдан швейцарскими властями русскому правительству, письмо о том от Бакунина к Огареву прозвучало, как мрачный реквием, в котором старик не нашел для юного и несчастного врага своего ни одного злого слова и отдал всю должную справедливость его талантам и искренности. Однажды Бакунин упрекнул Герцена за «высокомерное, систематическое, в ленивую привычку у тебя обратившееся презрение к моим рекомендациям». Герцен оскорбился, хотя Бакунин был прав, а, может быть, именно потому, что Бакунин был прав. Бакунин извинился, сделав только одну оговорку: «А что, если бы тебе пришлось получить все записки, которые ты мне написал? Ведь ты бы давно услал меня в Калькутту!»
Когда вышли в свет посмертные сочинения Герцена, Бакунин был уязвлен его воспоминаниями, называл их карикатурою и пасквилем. Это преувеличение: в памфлете Герцена нет ничего унижающего или оскорбительного для Бакунина, кроме – тона. А тон, действительно, жуткий, когда вспомнишь, что этими презрительными снисходительно-насмешливыми нотами Герцен ликвидировал отношения тридцатилетней дружбы. Конечно, amicus Plato, sed magis amico Veritas[9]. Но и Veritas могла бы быть высказана в форме более деликатной и менее субъективной. Бакунин писал самому Герцену гораздо более суровые строки и гораздо более резким слогом (например, о Каракозове, о гневе Герцена на брошюру Серно-Соловьевича), но вряд ли позволил бы он себе писать о Герцене, обращая образ его в посмешище и игрушку толпы. Он был мягче, проще и таил в сердце своем больше веселья, чем иронии, неукротимый, сверкающий талант которой в Герцене оказывался часто сильнее его доброй воли.
Нет, Бакунин не был ни гордым, ни самолюбивым, ни самомнящим человеком. Письма и литературные труды его превосходны стилистически. Язык их близко напоминает слог Лермонтова в прозе. Однако Бакунин далек от того, чтобы ценить свой литературный талант по достоинству. «Ты стилист, классик, – пишет он Огареву, – так тебе, пожалуй, не понравится мое писание… Батюшка, Александр Иванович! будь крестным отцом этого безобразного сочинения (предполагавшийся памфлет против Маркса), его умывателем и устроителем. Издать его сделалось для меня, по всему настоящему положению, просто необходимостью. Но я не художник, и литературная архитектура мне совсем не далась, так что я один, пожалуй, с задуманным заданием не справлюсь…»
Бывают люди, которых частная жизнь слагается из преимущественных черт: любви, болезни, дружбы, долга и т. д. На психологии преобладающего чувства строил свои грандиозные романы великий Стендаль и создал тем идеологическую школу беллетристики. Если разбирать последовательно всю частную жизнь Бакунина, то в ней господствующею чертою было – «быть упрекаемым». Этот человек жил и работал вечно под дамокловым мечом чьей-либо нотации – от своих и чужих, от близких и далеких, от современников и мемуаристов. Одним из нелепейших, но наиболее частых упреков Бакунину повторяли, что он не сдержал честного слова, данного Муравьеву-Амурскому и Корсакову – не бежать из Сибири, а сбежал, при первой представившейся возможности. Наивность этой барской претензии сохранять рыцарский point d'honneur[10] в подневольных условиях ссыльно-поселенческих, в отношениях узника к тюремщику, возмущала еще Герцена. Он в свое время защитил Бакунина в справедливо резких словах. Но общее мнение было против Бакунина. Даже такой умный, казалось бы, человек, как Кавелин, жаловался, что Бакунин «ушел из России нехорошо, нечестно». Недавно я нашел подобную же ламентацию в публикуемых «Русскою мыслью» записках А. М. Унковского. Любопытно, что и сам Бакунин терзался некоторое время мыслью, что «пришлось обмануть друзей». И лишь Герцен, с обычным ему здравомыслием, справедливо говорил:
– Экая важность, что Корсаков получил из-за тебя выговор. Очень жаль, что не два.
Масса упреков падает на денежную безалаберность Бакунина. Действительно, должник он был хаотический и плательщик неаккуратный. Из всех мемуаристов о Бакунине жалостнее всех плачется на этот порок социалист 40-х годов, Арнольд Руге. В журнале его «Halle'sche Jahrbucher» Бакунин напечатал, под псевдонимом Жюля Елизара, знаменитую статью свою «Реакция в Германии», где впервые правозглашен был основной принцип, впоследствие усвоенный как девиз анархическою революцией: страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть – Die Lust der Zerstorung ist zugleich eine schaffende Lust[11]. Вообще, эта статья сделала эру в социально-революционном движении умов в «молодой Германии», почему впоследствии Бакунина и величали иногда немножко преувеличенным титулом – «отца германского социализма»… Руге обожал Бакунина, хотя и ненавидел его славянские симпатии и мечтания о всеславянской федерации, но обожание не смягчало в бедном немце тоски по суммам, которые великий революционер занимал у своего экс-редактора пудами, а выплачивал золотниками. Между Огаревым, Герценом и Бакуниным царил, сорокалетними отношениями накопившийся, хаос денежных счетов. Со смертью Александра Ивановича хаос еще более осложнился, так как Бакунин, подстрекаемый Нечаевым, потребовал отчетности по пресловутому Бахметевскому фонду… Разумеется, в хватании денежных займов налево и направо, в житье на чужой счет, в неуплате долгов нет ничего хорошего. Обелить эту черту в характере Бакунина невозможно. Однако – «виновен, но заслуживает снисхождения». И повод к таковому дает прежде всего, конечно, та привычка к кружковщине, построенной на началах шиллеровской дружбы, которою началась и в которой тянулась юность Бакунина, – барича, богатого номинально и in spe, но фактически совершенно нищего. Свою поездку за границу Бакунин совершил на счет кружка Герцена. Интересны мотивы, представляемые им для этого займа: «Я жду духовного перерождения и крещения от этого путешествия, я чувствую в себе так много сильной и глубокой возможности, и еще так мало осуществил, что каждая копейка для меня будет важна, как новое средство к достижению моей цели… Беру у вас деньги не для удовлетворения каких-нибудь глупых и пустых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели моей жизни… Я никогда не позабуду, что, дав мне средства ехать за границу, вы спасли меня от ужаснейшего несчастья, от постепенного опошления. Поверьте, что я всеми силами буду стараться оправдать вашу доверенность и что я употреблю все заключающиеся во мне средства для того, чтобы стать живым, действительно духовным человеком, полезным не только для себя одного, но и отечеству, и всем окружающим меня людям». О счастливые времена, когда российский интеллигент мог достать денег у других интеллигентов на предприятие «духовного перерождения и крещения», на страховку от «опошления» и под единственное обеспечение – под обещание «стать духовным человеком»!.. В первом десятилетии XX века все это кажется каким-то мифом…