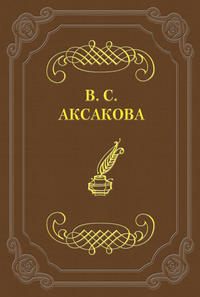полная версия
полная версияДневник. 1855 год
Ясно, что это не иначе писано, как по нашему наущению, что мы заранее согласились на мир на всех четырех пунктах и с отдачею Севастополя для удовлетворения самолюбия Наполеона. А нас только дурачили и не знали только, как сладить с общественным мнением и с армией, которую обмануть еще труднее было. Если это так, то подлее этого поступка нельзя и придумать. – Правительство предает предательски народ, которым правит! Чего еще мы дождемся? Поскольку государь действует тут сознательно, трудно решить. Может быть, его убедили в невозможности отстоять Севастополь, в неизбежности его падения, и он по слабости своей согласился на такие меры. Или он делает это в надежде, и то только в надежде, что привлечет Австрию в союз, что возобновит враждебный нам, так ошибочно называемый, святой союз, если Наполеон не согласится на мир и на этих унизительных условиях. Во всяком случае это дурно, и не то говорил он при восшествии на престол, обещая исполнять виды Екатерины; конечно, уступая Черное море и Севастополь, он не исполнил их. – Боже мой, что делается у нас и чего ждать! Государь приехал в Москву 1 сентября поздно ночью, но, несмотря на то, народу было очень много и встретили его, говорят, хорошо. Константин не дождался его приезда, но видел его на другой день в Кремле. Народу было такое множество, особенно внутри решетки, что с мужчинами даже делалось дурно. Константин много наслышался тут разных народных толков. – Говорили, впрочем, без уныния о настоящих несчастных событиях, вспоминали 12-й год, своих отцов, участвовавших в нем. «Только скажи, только ухни, нас 60 миллионов – мигом 6 миллионов поставим». Был тут также один человек (вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину), который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце. – Наконец, появился государь с государыней под руку. Ура кричали не дружно, так что Константину стало жалко, и он сам поддерживал возгласы. Все Красное крыльцо наполнилось блестящими придворными, государь и все были без шапок, разумеется и народ. – Государь так худ и печален, что Константин говорит, что нельзя его было видеть без слез, он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования. И сверх того он также жертва воспитания этой гибельной системы, от которой не может сам освободиться. – Государь кланялся не низко, как все заметили в народе. – Тут Константин услыхал, как тот же подозрительный человек сказал: «Одному человеку какая честь!»
Как скоро государь и государыня вошли в Успенский собор, народ надел шапки, но придворные оставались еще на площади без шляп, и потому один полицейский счел за нужное приказать народу снять шляпы, но в народе отвечали: «Зачем? Государь вошел в собор, для дам что ли нам шляпы скидать?» И не послушались.
При входе в Успенский собор митрополит встретил государя с крестом и говорил довольно долго речь. Из Успенского собора государь пошел в Архангельский, но тут сделалось так тесно, что Константин поспешил уйти. – Константин видел Погодина, он совершенно убит; его приглашают показывать Москву наследнику, но он хочет отказаться; говорит, что просто не может собрать мыслей; Погодин в совершенном отчаянии еще более потому, что, не говоря уже о правительстве, само общество в такой апатии, так равнодушно, деморализовано, что ничего ожидать нельзя. Погодин нарочно ездил в клуб: там все по-прежнему толкуют, но между тем карточные столы по-прежнему расставлены. Погодин получил письмо от графини Блудовой еще до сдачи Севастополя, по которому ясно видно, что в Петербурге это событие не было нечаянностью, боялись только, чтоб оно не пришло в то время, как государь будет в Москве. В то же время Погодин получил письмо от Берга из Севастополя, тоже еще до отдачи его, в котором тот пишет, что один (главный генерал) велел свезти пушки с укреплений самого большого размера, это было исполнено с большими затруднениями, но эти пушки вот уже неделя лежат внизу укреплений неприбранные. – И, несмотря на это, приступ был отбит, а Севастополь все-таки отдали. Конечно, хуже всех врагов Горчаков, Долгоруков, Нессельроде, как от них защититься!.. В таких-то толках и разговорах, в самом безотрадном расположении духа провели мы целый день. Вечером мы вздумали с Соничкой одни съездить ко всенощной, туда доехали благополучно, помолились, но на возвратном пути со мной случилось не совсем приятное происшествие, но которое по милости Божией, кажется, не будет иметь слишком дурных последствий. Было уже очень темно, на мосту лошади наши не пошли, потому что в постромки запутались, надобно было выйти из коляски, нам показалось, что коляска катится назад, мы поспешили сойти с моста, в одном месте не было перила, я приняла это за окончание моста и пошла в сторону, только что сделала один шаг, оборвалась и упала в ров недалеко реки; хорошо что тут обрыв рва остановил мое падение; не помню, как я вышла оттуда.
Константину было сообщено письмо Вяземского, ему оно также было очень приятно, кроме одного выражения, которое его остановило, именно: надобно, чтоб был один пастырь и одно стадо (говоря об министерстве просвещения и об обществе). Выходит, что министерство будет нас пасти; нам же показалось, что это только дурное выражение, а мысль была другая, но впоследствии оказалось, что мы ошибались. Решено было, что Константин на другой день опять поедет в Москву для свидания с министром.
4 сентября. В воскресенье рано получили почту: письмо от Ивана, от Гильфердинга, московские газеты и иностранные журналы. Депеши Горчакова, что неприятель не занимал еще Севастополь два дня спустя нашего отступления и что Горчаков взорвал сам укрепления наши, не дожидаясь прихода неприятеля, возмутили еще более всех; явно, что Севастополь отдан даром, разрушен без нужды и без вреда неприятелю; а сколько было потрачено сил, времени, труда на укрепления его, каждый дом был укреплен и дорого бы достался неприятелю. Право, все это объяснить трудно иначе, как изменою. – Не сам Горчаков, так окружающие его. – Называют же генерала Жабокрицкого, как изменника; говорят, его поймали казаки. – Прочтя депешу Горчакову, еще тяжелее стало на душе.
Иван пишет из Новгорода-Северска, хлопот ему множество, и он хочет по приходе в Киев сдать должность казначея, если же придется зимовать в Киеве, то он хочет совсем оставить ополчение. Видно, у них много неприятностей с дружиной, ратники пьянствуют и буянят; и, говорят, везде почти также, особенно, как добрались до дешевой и крепкой водки, не знают, как с ними и сладить. Строганов осматривал их в Новгороде и сам рассказывал Ивану, что Дмитровская дружина Голицына (Леонид) идет совсем иначе. Голицын ведет их, как на богомолье в Киев, и потому нет ни пьянства, ни буйства, и везде служат молебны. – Мы знаем, что и здесь Голицын вместо пробного похода водил свою дружину на богомолье за 12 верст; это прекрасно и умно, что он дал такое значение походу. – Но вообще Иван представляет жалкую и грустную картину всего положения дела. – Жители большею частью очень не рады этим гостям, говорят: «Что нам турки, нам свои не легче», и т. д. Священники, будучи обязаны встречать с крестом дружины, часто просят дать расписку, что они выходили встречать и т. д. Иван более всего винит самих офицеров и говорит, что надобно прежде всего перевоспитать их.
Гильфердинг пишет из какого-то местечка недалеко от Праги, пишет о жажде сообщения и знания русской деятельности, которая существует в этих местах, и о совершенном недостатке средств удовлетворить этой жажде, о равнодушии русских в этом отношении; заключает тем, что просит прислать книг русских, хорошо написанных, в том числе, конечно, отесенькиных и Константиновых, просит сестер списать разные списки стихов Хомякова и других, просит вырвать «Библиографическую хронику» из «Отечественных записок» и т. д. Словом сказать, не только сам принял деятельное участие, но и других подвинул к тому же. Честь и слава ему, это великое достоинство. – Константин и сестры немедленно же исполнят его поручения.
Константин, воротясь из Москвы, принял решение написать письмо к государю о том, что необходимо сменить Горчакова, указать на Ермолова, как на единственное народное имя, и вообще высказать мысли о настоящем положении, о том, что Севастополь временно уступлен, и т. д. Он написал это письмо и взял его с собой в Москву. После же его отъезда прочли мы иностранные журналы и увидали из них ещё яснее, что у нас идут сношения с Австрией и иностранными державами, что мы все уступаем; чуть ли Севастополь не был отдан единственно для благосклонного взгляда Австрии. Константин уехал в Москву рано утром.
После отъезда Константина приехали Пальчиковы от обедни, оба возмущенные, пораженные страшной вестью. Николай Васильевич, несмотря на свой положительный характер и свое благочестие, говорит: «Мы не можем даже иметь утешения римлян посадить себе пулю в лоб». Все думают, что Горчаков или будет разбит, или, что всего вероятнее, неприятель высадится в Евпатории, окружит его, и Горчаков с торжеством положит оружие. Пальчиков выходит из себя и говорит, что надеется, что найдется кто-нибудь, кто свяжет его по рукам, и армия его не будет слушать. К несчастию, вряд ли это возможно.
5 сентября. Нам прислали сказать из Хотькова, что ждут государыню к вечерне. Сестры поехали, но понапрасну: государь и государыня проехали на другой день прямо к Троице, потому что дорога в Хотьково в самом деле ужасна и еще хуже сделалась от поправления, потому что дождь размывал все, что накладывали. Маменька с Наденькой ездили к Пальчиковым прощаться, видели только одну Марью Алексеевну.
6 сентября. Константин воротился из Москвы вполне разочарованный насчет министра. Под впечатлением письма князя Вяземского Константин приехал к министру и с полным доверием стал ему говорить, чего он желает. Норов, что и Вяземский, говорил ему, что правительство готово исполнить это желание, но надобно доказательство, ручающееся за его благонамеренность, что его статья о родовом быте самая вредная и т. д. Константин сказал, что он от своих убеждений не отказывается, что его статья не заключает в себе, по его убеждениям, ничего вредного. Константин был так поражен его речами, что не вдруг мог понять смысл их. Разумеется, Константин держал себя свободно и говорил прямо и твердо. Не помню подробности разговора. Знаю только, что Норов, наконец, сказал: «Вяземский мне об вас сказал совсем другое, а теперь я вижу по вашему образу мыслей, что он совершенно ошибся». – «Что же я такое сказал, что вы можете заключать о моем образе мыслей?» – спросил Константин. – «Вы ничего не сказали, – отвечает Норов, – но я недаром жил на свете и умею узнавать людей не только по словам их»: Константин, видя, что разговор идет слишком далеко, сократил его, сколько возможно, и сказал, что он видит, что ему нечего ожидать и т. д. Между тем в продолжение разговора этот… Норов с голосу, видно, твердил, что цензура у нас дошла до нелепости, что скоро выйдут новые инструкции цензорам; и тут же – что хотя он очень любит Хомякова, но его стихи к России очень вредны и что «стихи „Бродяга“, брата вашего, также никуда не годятся». «Что же такого в „Бродяге“ вредного?» – сказал Константин. – «Как же, он выставляет в таком привлекательном виде бродяжничество». Что после этого говорить! «И это министр народного просвещения, – справедливо сказал Константин, – он лично министр, но только народного помрачения». Чего тут ждать! Конечно, очень жаль, что Константин с ним виделся, потому что эта попытка совершенно закрыла даже возможность в будущем получить снятие подписи и убедила этого сумасброда, что Константин и ему подобные просто бунтовщики, по крайней мере, он едва не высказал этого. Прощаясь, он несколько старался сгладить свои речи и подал руку. Константин был взбешен и огорчен. – Вести все те же. Государь переменил маршрут и вместо Варшавы едет в Николаев, куда еще 3-го числа уехал великий князь Константин Николаевич. Говорят, великие князья были у Ермолова и он им сказал: «Спасайте Николаев». – Погодин видел великого князя Константина Николаевича в Оружейной палате в день его отъезда и говорил с ним долго, но разговора не рассказывает; Погодин только передал эти слова. Константин Николаевич, прощаясь с Погодиным, взял его за руку и сказал: «Благодарю вас и всех, кто имеет ко мне доверие» (или надеется на меня, не помню хорошенько). Эти слова странны. Вероятно, они были вызваны словами Погодина, во всяком случае, со стороны Константина Николаевича они не совсем осторожны. – Государь принимал купцов очень ласково, но Черткову сказал: «Я очень люблю быть благодарным, но, к сожалению, мне не за что вас благодарить». Впрочем, потом по доброте своей ему стало жаль, и он сказал Закревскому, чтобы он уверил Черткова и дворянство московское, что он не сердится. Капниста удалили из губернаторов, но зато сделали сенатором. Говорят, что подтверждаются слухи об измене генерала Жабокрицкого, его поймали казаки в то время, как он переговаривался с неприятелем; что в этом деле не без измены, в этом мудрено сомневаться. Приемом государыни все довольны, говорят, будто бы она не велит себя иначе называть, как madame, разговаривала просто о вещах дельных, не так, как прежняя государыня, которая тоже приехала, остановилась в так называемой Александре, почти за городом, т. е. в своем дворце, возле Нескучного сада; говорят, государя окружает целая семья Адлербергов, Долгоруковых, Барятинских и образуют camarill'ю, сквозь которую нет к нему доступа; говорят, сам Бажанов, духовник государя, сказал с отчаянием: «Наши люди окружают его!» – Каковы наши сенаторы – отличились! Один из них сам рассказывал, что они представлялись целым сенатом государю, представившись, вздумали зайти поклониться Орлову, Адлербергу и, наконец, к Долгорукову. «Я было не хотел, – говорит Казначеев, – но меня уговорили». И так в целом составе явились они к этому мальчишке перед ними, который прежде был всех моложе чином, человеку, который обязан своим повышением великой княгине Марии Николаевне и который так губит Россию. Но зато он их так принял, что они сами не рады были. Он принял их стоя и едва кивнул им головой, одному кому-то сказал: «А помнишь, как я был под твоей командой?» Потом кивнул еще раз всем головой, сказавши «прощайте», и сенаторы удалились. Вот подлость, которой нет названия, не вынужденная, непрошеная, так, из удовольствия подличать. Получены журналы иностранные, напечатана статья из Journal des Debats об Горчакове, по поводу найденного на Реаде его плана сражения и инструкций. Надобно отдать справедливость французам, они с благородным негодованием говорят о недостатках, или лучше о совершенной неспособности, неприятельского главнокомандующего; им, конечно, выгоднее, что такой неспособный генерал командует нашими войсками, делает ошибки, губит войска без нужды, в глазах своих дает их истреблять, не посылая им подкрепления, тогда как возле него стоит резервный корпус в 30 000; но они беспристрастно возмущаются этим и, конечно, удивляются, что целая армия и судьба России вверены такому человеку. Боже мой, Боже мой, хоть бы поверили иностранным отзывам о Горчакове! Но ничто не помогает. – Еще в начале войны при Николае Павловиче англичане объявили, что им нечего бояться, пока Нессельроде управляет русской политикой, потому что Нессельроде вполне разделяет взгляды Англии (Сеймура конфиденциальное донесение). И что же, Нессельроде и теперь продолжает действовать так же и губить Россию. Божие наказание явно во всем!
7 сентября. Государь с государыней проехали к Троице, а за ними все великие князья и княгини, еще вдовствующая императрица, принцы и принцессы.
На другой день, 8-го числа, Константин с Надей и Соничкой поехали к Троице, чтоб их видеть, но в церковь не решились взойти, потому что в дверях было тесно, впрочем, они очень жалели после, что не пробрались, потому что в самой церкви было просторно, и вдоволь бы там нагляделись на государя и государыню, слышали бы молебен и молитву Филарета, которую он произнес к преподобному Сергию и которая всех заставила плакать. Государыня же, говорят, заливалась слезами. Наши простояли часа три на площади и видели их только, как они прошли мимо их. Государь был также печален и поражал всех и худобой и грустью, которая выражалась у него на лице. Накануне они были у всенощной, служили молебен и также все усердно молились, а за обедом Филарет вручил по просьбе государя образ складной на доске от гроба преподобного Сергия, который был прежде в походе с царями Алексеем Михайловичем, Петром Великим и с Михаилом Федоровичем. О, да поможет нам своими святыми молитвами преподобный Сергий, как помогал он столько раз русской земле в тяжелые времена! Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас! Наши воротились к обеду. Получены газеты и письма, в газетах почти никаких известий.
Горчаков выводит всех из терпения своими донесениями, что в Крыму ничего нового не происходит. Неприятель уже начинает занимать Севастополь.
Письмо получено от Трушковского из полтавской деревни. Везде только бедствия и бедствия, в тех губерниях и неурожаи, и засуха, и болезни, и, наконец, саранча в Херсонской губернии поела все, что и было. – Это древние казни. Видимо, над нами гнев Божий.
Константин написал к Вяземскому письмо, в котором он говорит о впечатлении, произведенном на него Норовым, что письмо его, т. е. Вяземского, возбудило в нем надежды и желание содействовать по мере сил, но что после свидания с министром он вполне убедился, что никакая литературная деятельность невозможна, что все его надежды разлетелись и т. д. Константин, несмотря на наши убеждения, все-таки прибавил, что просит его, т. е. Вяземского, передать министру, что он никогда не отречется от своих убеждений.
В газетах напечатана статья Вяземского, которая привела нас в отчаяние. Так вот его взгляд, вот чего он хочет, что он подразумевал под словами своими в письме к Константину, что должен быть един пастырь и едино стадо, т. е. что министерство будет по своему позволению управлять не только цензурой, но и направлением литературы, мыслями авторов. До сих пор их стесняли в выражениях, а теперь хотят и мысли их сделать казенными и все их внутренние движения души. – Правительство наше себе даже приписывает русское направление, хочет забежать вперед всякому живому движению, даже в литературе, и парализовать его, наложивши на все казенную свою печать. Конечно, таким образом они разгонят всех честных и истинных русских двигателей мысли и направления. Им нужны Майковы, вот идеал их русского направления и благонамеренного казенного писателя. Майков, который писал еще при Николае Павловиче, что надобно только русского человека для его совершенствования «во фрак одеть могучий стан», а при Александре Николаевиче восхваляет Москву и поклоняется Николаю Павловичу. Этот Майков хотел было летом приехать знакомиться в Абрамцево, но ему посоветовали этого не делать. – Чего ждать от Вяземского. Это хуже, нежели гонение на литературу, намерение сделать ее казенной. – В этих же газетах, так, между прочим, сказано, что австрийский эрцгерцог назначается шефом одного полка. Каково, в такое время такая подлость перед австрийцами! Чего же ждать после этого!
Воротились наши девушки от Троицы, ходили Богу молиться, а между тем и насмотрелись вдоволь на государя и государыню и всех князей, княгинь и принцев. Государыня, как они рассказывают, плакала, как потерянная; народ говорит, что она плачет оттого, что провожает государя на войну; государь тоже очень печален. Они приехали вместе и ходили везде под ручку. Везде молились усердно, со слезами. Когда государь шел между народом, то просил всех не кричать громко. «Тише, тише». Народ говорит: «Ему не нравится, что мы кричим не складно, не по-солдатски». Тут был один раненый солдат из Севастополя, государь расспрашивал его долго, дал ему денег и куда-то его велел поместить. Наследник, очень небольшой, худенький мальчик, разговаривал с солдатами: «Послужите моему папаше, вы хотя стары, но нечего делать, некем взяться, теперь скоро кончится война». Я передаю рассказы девушек. После уже услыхали мы, что они между собой рассказывали: «Вот и государь на всех не угодит, народ его так и пушит, пушит. Вот, говорят, Севастополь отдал – приехал Богу молиться». Они нам не хотели и рассказывать этого. Поразительно это явление, оно меня обдало каким-то ужасом, страшный приговор. Он молится, плачет, а народ немилосердно произносит ему суд, как бы не благословляя его молитвы. Несчастный государь! Страшно что-то роковое преследует его. Господи, помилуй нас! Государыня Мария Александровна одета чрезвычайно просто, государыня Александра Федоровна с седыми локонами, в grande tenue [21], – по-прежнему. По отъезде государя с женой Александра Федоровна служила в соборе панихиду по Николае Павловиче, велено было растворить все двери, впустить простой народ, раздать всем свечи, так что и вне церкви стояли и молились.
Их столько наехало к Троице, что должно было занять квартиры ректора, и инспектора и т. д. Говорят, новый двор отличается не только отсутствием роскоши, но и расчетливостью; все хорошо, потому что слишком много даром тратилось денег, но не дай Бог скупости – это не хорошо.
9 сентября. С почты одни московские газеты, депеш от Горчакова нет, невыносимо томительно это неизвестие, да и депеши бывают такого рода, что только возмущают своею неудовлетворительностью. Донесения Муравьева совсем другого рода, в этом номере есть от него донесения.
10 сентября. Сестры пошли пешком к Троице, а маменька поехала туда же ко всенощной и завтра после обедни воротится. Было довольно тепло, хотя и ветрено. После обеда мы сидели, отесенька, Константин, Машеньку и я, в гостиной, когда приехала Прасковья Андреевна Васькова из Москвы. Она проводила мужа из Москвы и очень грустит. Рассказывала некоторые подробности о впечатлении после известия о сдаче Севастополя; все были поражены и возмущены до крайности, все кричали против Горчакова, называли его изменником, нашли, что и отец его изменник (но это не отец его) и что он сам женат на англичанке (и это впрочем, ошибочно). Кто говорит, что лавки на Смоленском заперли, по случаю ужасного известия.
Но вообще народ был смущен, огорчен и недоволен, особенно купцы явно высказывали. Федор Иванович Васьков представлялся государю; он спросил только, какого ополчения. Государь сделал смотр Вологодскому ополчению и остался очень доволен, а оно, говорят, хуже Костромского. Вологодская одна дружина, что пришла, то разбила кабак – на Воробьевых горах. Государь уехал в ночь с братом Михаилом Николаевичем в Николаев; прежде них туда же поехал и Николай Николаевич! Что-то они там сделают! Хорошо, если б сменили, по крайней мере, Горчакова: иначе наша армия погибнет.
Нового министра Ланского хвалит Прасковья Андреевна, она его знала еще, когда он был губернатором в Костроме; говорят, честный, благородный, умный человек, но аристократ и горд. Он сказал речь своим чиновникам, говорят, очень хорошо. Прасковья Андреевна Васькова знает также хорошо Муравьева, главнокомандующего в Азии, и много про него рассказывала, человек бесспорно умный, но такой чудак, что трудно вообразить себе; человек холодный, даже жестокий, а между тем способный оценить душою доброе внимание. Жена его чудачка еще более его, она – урожденная Чернышева.
На другой день, т. е. 11-го, в воскресенье, воротились наши от Троицы, привезли много писем, московские газеты, иностранные журналы. В «Journal de Francfort» объявлено, что мы оставили Петропавловск при приближении английской эскадры; мы знали еще летом, что решено было его оставить, но что в этом утешительного, если мы таким образом предоставим все свои берега во владение врагам своим! А в наших газетах еще не было. – В «Московских ведомостях» замечательная статья Погодина о пребывании государя в Москве (ему было поручено написать). Хотя эта статья начинается довольно пошлым тоном и без особенного достоинства и в самой статье есть выражения вовсе лишние, несправедливые и слишком верноподданные, но вся статья замечательна свободным, открытым языком, которым говорится с государем и о государе, об настоящих событиях, об настоящем положении России, об ее потребностях и т. д. Оканчивается статья: мы ожидаем от тебя новых указаний, поощрений, льгот, наряду. (Это слово немногие поймут в смысле порядка.)
Но что значат все эти статьи? Ведь если они и пропущены, так они все-таки ни к чему не обязывают, а только еще более вводят в заблуждение нас, легковерных, которые хотим из всякого явления вывести себе какое-нибудь последовательное заключение и строим беспрестанно воздушные замки на таких непрочных основаниях. Этим только нас мажут по губам и заставляют пребывать в приятном ожидании. Рескрипт государя к Закревскому о благодарности государя к Москве очень хороший: видно, что он человек прекрасный, душа, способная чувствовать все доброе, но нет энергии, нет силы, а это для государя плохо. – Я, признаюсь, начинаю терять всякую надежду и часто сильно сержу Константина и других своими нерадостными заключениями. Константин особенно все еще надеется на государя и ждет от него много добра. Невыносимо больно читать и убеждаться, что Горчаков даром отдал Севастополь. Сами враги наши этого не ожидали. Каково их торжество, и каково наше горе, безутешное и бесполезное сокрушение! Неужели не сменят и теперь Горчакова? Но как им сменить, когда сам государь дал на то согласие! Это невыразимо возмутительно! – Ясно, что надеялись, отдавши Севастополь, заключить мир или, по крайней мере, приобрести союз с Австрией. И право, мне кажется весьма вероятным, что и в сдаче Севастополя не без участия Нессельроде, для которого Севастополь был препятствием для заключения союза с Австрией и спасения ее! Ну, право, я не могу поверить, чтоб тут не было измены и подкупа. Кого ни спросите о Нессельроде, всякий говорит самым утвердительным тоном: «О Нессельроде, известно, самый корыстный человек!» Если он корыстный человек, то неужели он мог устоять от подкупа, который, конечно, не преминули ему предложить наши враги, особенно зная его корыстолюбие. – Все его действия до сих пор только клонились к гибели России, к унижению ее и к пользам врагов наших. Одно это выражение в его прежней депеше – uniquement pour les interets de I'Autriche et de I'Autriche nous faisons un immense sacrifice [22] – разве не оправдалось теперь: мы избавили Австрию от войны, которая была бы ей гибельна, и намеренно привлекли войну на свою землю. Сохраняя безопасность Австрии, мы погубили Россию. О Боже мой, это невыносимо, и этот Нессельроде продолжает управлять всем! И Долгоруков, и Горчаков – все трое губят Россию и сотни тысяч несчастных безнаказанно в глазах всех. Божье наказание. Ужасное время!