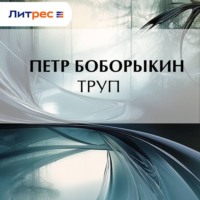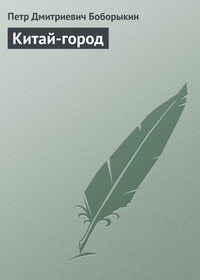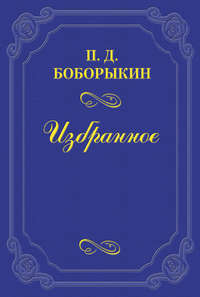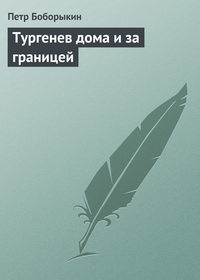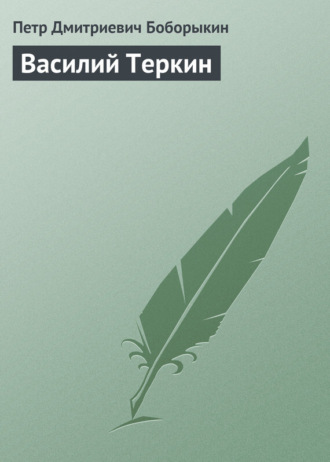 полная версия
полная версияВасилий Теркин
– Послушай, – окликнул он Николая, покончившего с водопоем лошади, – ты небось знаешь, чей был прежде двор, где теперь Птицыны?
– Допрежь? Дай Бог памяти!
– Чтой-то… Митрич! – подсказала жена. – Н/ешто запамятовал? Теркиных дом-от… спокон веку стоял.
– Ивана Прокофьича ужли не помнишь? – спросил Теркин, и краска проступила у него в щеках.
Николай почесал у себя над виском и снял картуз.
– Это точно! Как не помнить Иван Прокофьича… Никак, он помер?..
– Помер, – повторил Теркин и тотчас же прибавил: – И старухи нет… Ты, Николай, думаешь, что я – заезжий барин? Так полюбопытствовал посмотреть, как пряники делают у Птицына?.. А я на этом самом дворе вырос. Меня Иван-то Прокофьич со своей старухой приняли… вот как вы же трех невест воспитали… Я – их нареченный сын.
– Ой ли?
Николай подошел поближе к нему и вгляделся.
– Может, видал меня мальчишкой?
– Видать то видал, беспременно, а ни в жисть не признаешь!
– Вон ты, кормилец, какой теперича – барин настоящий.
Жена Николая подперла ладонью свое благообразное, немного строгое лицо и тоже воззрилась в гостя.
– Бездетные они были, это точно. Сама-то я не бывала у них ни единожды, а в шабрах немало гуторили. Помнишь, Митрич? У Ивана-то Прокофьича нелады шли со старшиной, что ли?
– С Малмыжским? Как не помнить! Он, никак, и на поселение угодил? Так ведь, батюшка?
Теркин все им рассказал: про ссылку отца, про свое ученье и мытарства, про то, как он больше пяти лет не заглядывал в Кладенец – обиду свою не мог забыть, а теперь вот потянуло, не выдержал, захотелось и во дворе побывать, где его, подкидыша, приняли добрые люди.
– Видишь, тетка, – сказал он, совсем смягченный своим признанием, – я такой же приемыш, как и твои названые детки. Вы их со стариком где же брали? У здешних кладенецких крестьян или у деревенских?
– Все у здешних, – ответили оба разом.
– А я – подкидыш!
И муж, и жена помолчали.
– Так и не знаешь, – тихо спросила Анисья, – каких таких родителев?
– Слышала, чай, подкинули… Как же тут узнаешь?
Николай значительно поглядел на жену: «нечего, мол, попусту болтать».
– Лучше и родные отец с матерью для меня не были бы, – сказал Теркин.
Он взглянул на мужа и жену и радовался тому, что эта чета всем своим побытом выедала из него недавнее злобное чувство к кладенецким мужикам.
– Не понесешь без лютой нужды свое детище к чужим людям, – как бы про себя выговорила Анисья и отошла к воротам.
Теркин поднялся.
– Поминают ли здесь добром Ивана Прокофьича? – спросил он возбужденно. – Ведь он живот положил за своих однообщественников! И базарную-то площадь он добыл от помещика, чуть не пять лет в ходоках состоял. А они его тем отблагодарили, что по приговору сослали, точно конокрада или пропойцу.
– Мы, батюшка, – ответил Николай, взяв лошадь за узду, чтобы вывезти со двора долгушу, – по правде сказать, ко всей этой сваре непричастны были. Я по другому совсем обчеству, хоть и одной волости. На сходки-то когда же нам ходить? У меня промысел извозный. Не до этого… И до сей поры свара-то не улеглась… Одни подбивают на городовое положение перейти, а другие ни под каким видом не соглашаются… Ходоков посылают в губернию, и сборы всякие… Намеднясь и с меня содрали целую трешницу… А нам со старухой и так хорошо!.. Нешто плохо, старая? – весело крикнул он жене. – Коли будем тосковать, можно и еще в дом взять паренька, что ли… Бог даст, вот такого молодца выходим, как ваша милость.
– Авось Бог пошлет! – подхватил Теркин. – Ежели младенец не крещеный, я в крестные пойду. Прощай, хозяйка!
И он вскочил на долгушу, крикнув Николаю:
– Теперь опять к становому!
XXXVСтановой жил в большой пятистенной избе, с подклетью, где прежде, должно быть, помещалась мастерская, и ход к нему был через крытый, совсем крестьянский двор, такой, как у Николая, только попросторнее… С угла сруба белелась вывеска. На крыльцо вела крутая лестница. Ворота стояли настежь отворенными.
С долгуши Теркин окликнул сидевшего на завалинке человека, видом рассыльного, в рыжем старом картузе, с опухшей щекой, в линючем нанковом пиджаке.
– Становой дома?
– Дома… Пожалуйте!..
Рассыльный подошел, и Теркин сейчас же узнал в нем писаря Силоамского, того самого, который присутствовал при его наказаний розгами в волостном правлении и острил над ним.
Кровь бросилась ему в лицо.
– Вы кто здесь, служащий? – спросил Теркин, сдерживая свое волнение.
– При становом состою, ваше благородие, вестовым.
Весь облик бывшего писаря, цвет лица, воспаленные глаза, обшарпанность одежды показывали, что он стал пропойцей, наверно выгнан был с прежней службы и теперь кормится у станового, без жалованья.
Теркин чуть не крикнул ему:
«Что, почтеннейший, на пакостях своих не нажили палат каменных?»
Силоамский, прищуриваясь от света, – день стоял яркий и теплый, – смотрел на него и, видимо, не узнавал.
– Туда идти, наверх? – спросил Теркин.
– Вам по делу, ваше благородие?
– От отца настоятеля.
– Пожалуйте.
Силоамский побежал вверх по крутым ступенькам лестницы и отворил дверь. Когда Теркин проходил мимо, на него пахнуло водкой. Но он уже не чувствовал ни злобы, ни неловкости от этой встречи. Вся история с его наказанием представлялась ему в туманной дали. Не за себя, а скорее за отца могло ему сделаться больно, если б в нем разбередили память о тех временах. Бывший писарь был слишком теперь жалок и лакейски низмен… Вероятно, и остальные «вороги» Ивана Прокофьича показались бы ему в таком же роде.
– К вам, ваше высокоблагородие, господин… от отца настоятеля.
Силоамский доложил это на пороге первой комнаты, куда из темных сеней входили прямо. Она была в три окна, оклеена обоями, в ту минуту очень светла, с письменным столом и длинным диваном по левой стене.
Раздался скрип высоких сапог станового, и он вошел из второй комнаты, служившей ему спальной, в белом кителе с золотыми пуговицами, рослый, кудрявый, бородатый, смахивал на дьякона в военной форме.
– Был уже у вас и оставил записочку от отца настоятеля.
Теркин все-таки не хотел назвать себя по фамилии при Силоамском. Тот медлил закрыть дверь за собою.
– Весьма рад!.. Записку нашел… Не угодно ли на диван?
Голос у станового был самый «духовный». Говорил он резко на «он», как говорят в глухих заволжских селах, откуда он был родом, да и в местной семинарии этот говор все еще держался, особенно среди детей деревенских причетников.
– Можешь идти, – оттянул густым басом становой в сторону посыльного и еще раз движением правой руки пригласил гостя на диван.
– С нашим древним селом желаете ознакомиться? – тем же басом спросил становой и довольно молодцевато, почти по-военному, перевел высокими своими плечами.
– Кладенец – моя родина. Только я от нее поотстал.
– Извините… фамилии не разобрал в точности.
– Теркин.
По выражению глаз станового не видно было, что фамилия «Теркин» что-нибудь ему напомнила.
– Родителей имеете здесь?
– Нет! Никого!
– Отец настоятель пишет, что вы интересуетесь осмотреть молельню здешних старообрядцев… Это можно. И службу ихнюю тоже желательно видеть?
– Коли это не соблазнительно будет для них.
Становой усмехнулся сквозь густые усы своим широким семинарским ртом.
– Понятное дело… Как по имени-отчеству?
– Василий Иваныч.
– Понятное дело, они всегда на всякого никоньянца волком смотрят… Однако допускают.
– Вы с ними ладите?
– По теперешнему времени, – глаза станового улыбнулись, – нет для них никаких таких угнетений… под условием, конечно, чтобы и с их стороны не происходило никакого оказательства или совращения. Опять же здесь и миссионер нарочито на сей конец имеется. Вы не изволили побывать у него?
– Побываю.
– Малый весьма дошлый и усердный. По правде вам сказать, он один и действует. Монашествующая наша братия да и белое духовенство не пускаются в такие состязания. Одни – по неимению подготовки, а другие – не о том радеют… Чуть что – к светскому начальству с представлениями: «и это запрети, и туда не пущай». И нашему-то брату стало куда труднее против прежнего. В старину земская полиция все была… и вязала, и решала. А теперь и послабления допускаются, и то и дело вмешательство…
Басистым коротким смехом прервал себя становой.
– У них и богадельня есть?
– Как же… И даже весьма солидное каменное здание. Намерение-то у них было в верхнем этаже настоящую церковь завести. Они ведь – изволите, чай, припомнить – по беглопоповскому согласию. Главным попечителем состоит купец миллионщик. На его деньги вся и постройка производилась. Однако допустить того нельзя было. Так верхний этаж-то и стоит пустой, а старухи помещаются в первом этаже.
Теркин слушал станового и помнил, что ему надо узнать, где проживает Аршаулов, тот «горюн», который пострадал из-за кладенецких мужиков еще больше, чем Иван Прокофьич; только не хотел он без всякого перехода разузнавать о нем.
– А в двух здешних сельских обществах по-прежнему усобица идет? – спросил он другим тоном.
– Идет-с, – оттянул становой с усмешечкой. – Еще не так давно конца-краю этому не было. Однако теперь партия торговая… самая почтенная, та, что на городовое положение гнет, одолела… Прежних-то, как бы это фигурально выразиться, демагогов-то, горлопанов– то поограничили. Старшина, который в этой воде рыбу удил…
– Малмыжский? – не утерпел Теркин.
– Вам, следственно, не безызвестно?
– Слыхал.
– Он разжился и ушел подобру-поздорову. Аггелы его, – становой рассмеялся, довольный своим словом, – все проворовались или пропились. Вот рассыльного при себе, почти Христа ради, держу! – Он указал курчавой головой на дверь. – Был писарь у них и первый воротила… Силоамский по фамилии, зашибается горечью… Потерплю-потерплю, да тоже прогоню.
– И ссудосберегательное товарищество рухнуло?
– Обязательно! Затея, была, ежели так взять, великодушная, но ничего, кроме новых смут и хищений, не вызвала… Да и тот, который…
Он не договорил и жалостно улыбнулся.
– Вы хотели сказать про Аршаулова?
– И про него вам известно?
– Бедняга!
– Это точно!
Тут было у места расспросить его про Аршаулова. Становой не стал ежиться или принимать официальный тон, а довольно добродушно сообщил гостю, что Аршаулов водворен сюда, проживает у старухи матери, чуть жив, в большой бедности; в настоящее время, с разрешения губернского начальства, находится «в губернии», но должен на днях вернуться. Он растолковал Теркину, где находится и домик почтмейстерской вдовы.
– Неприятностей он вам не причиняет? – спросил Теркин вполголоса.
– Не могу пожаловаться… Да знаете, он больше, как бы это выразиться… созерцатель, чем причастный к крамоле. К тому же и в чем душа жива… Ежели вы его навестите, увидите – краше в гроб кладут.
Визитом к становому Теркин был доволен.
Когда он стал прощаться, тот быстро подошел к письменному столу, взял с него записку настоятеля и, держа ее в руке, спросил:
– С Моховым, с Никандром Саввичем, вы еще не повидались? Отец архимандрит пишет, что вам и с ним желательно повидаться. Он теперь первый воротила у партии городового положения.
– И отца моего приятель был.
– Одно к одному!.. Да не угодно ли вместе? У вас здесь, никак, извозчик: видел – долгуша подъезжала… Мне ж до него дело есть… Вы сами-то где же изволили остановиться?
Пришлось и ему рассказать про ночлег в трактире. Становой извинился за такое «безобразие» и выразил уверенность в том, что Никандр Саввич перевезет «дорогого гостя» к себе, коли ему не хочется погостить в монастыре.
– Да и у меня, милости прошу, вот вся моя хоромина, с диваном!.. Только по утрам бывает народ, а вечером тишина полная… Я ведь и сам был вашим постояльцем.
– Как это?
– Отец архимандрит сообщил: вы – хозяин парохода «Батрак». Я на нем вниз по Волге бегал. Превосходный ходок! И как все устроено, на американский манер… Вам бы известить меня депешей. А к начетчику молельни мы тоже можем заехать. Завтра у них утром служба… Силоамский! – крикнул становой в дверь. – Подавать вели извозчику.
И опять по лицу бывшего писаря Теркин не мог догадаться: узнал ли он приемыша Ивана Прокофьича или нет.
XXXVIНа балконе двухэтажного дома Никандра Саввича Мохова, защищенном от солнца тиковыми занавесками, на другой день, ранним послеобедом, Теркин курил и отхлебывал из стакана сельтерскую воду. Хозяин пошел спать. Гость поглядывал на раскинувшуюся перед ним панораму Кладенца. Влево шла откосом улица с бревенчатой мостовой, обставленная лавками. Она сначала вела к плоскому оврагу, потом начинался подъем, где стоял тот трактир, откуда он вчера переехал к Мохову, по усиленной его просьбе. Не было причины отказать… Мохов обрадовался ему чрезвычайно, даже слезы у него выступили на глазах, когда они расцеловались. Он вспоминал об Иване Прокофьиче в самых приятельских выражениях. Ни в монастырь, ни на постоялый двор Теркину не захотелось переезжать из трактира, где было совсем скверно.
На самом верху выставлялись главы церкви Николая– чудотворца. Ее кладенецкие обыватели звали «собором» и очень заботились о его «велелепии» – соперничали с раскольниками по части церковного убранства, службы, пения, добыли себе «из губернии» в дьяконы такого баса, который бы непременно попал в протодьяконы к архиерею, если б не зашибался хмелем.
Теркин перебирал все, что ему привелось в одну неделю видеть и ощущать там – у Троицы, здесь – в Кладенце. Не испытал он нигде возврата к простой мужицкой вере. Сегодня утром, отправляясь к молельне, с запиской от станового, он искренно желал найти у раскольников что-нибудь действующее на чувство, картину более строгого благочестия, хотя бы даже изуверства, но такого, чтобы захватывало сразу.
Опять долгуша Николая подвезла его к высокой каменной ограде с воротами, какие бывают на кладбищах. У ворот стояло немало телег, с приехавшими из деревень бабами и мужиками.
На обширном дворе, кое-где с березками и кустами бузины, где приютилось и кладбище, прямо против входа – молельня, выкрашенная в темно-серую краску, с крытым ходом кругом всего здания, похожего и на часовню, и на жилой дом.
Оттуда доносилось пение, довольно стройное, громкое, точно все молящиеся пели, с протяжным звуком в конце каждого возгласа, в минорном приятном тоне, отличном от обыкновенного пения православной службы.
На дворе он остановил мальчика, проходившего к крылечку с левой стороны здания. Мальчик был в темном нанковом кафтанчике особого покроя, с кожаной лестовкой в руках; треугольник болтался на ее конце. Она ему сейчас же напомнила разговор с Серафимой о ее матери, о поклонах до тысячи в день и переборке «бубенчиков» лестовки.
Мальчика он попросил вызвать какого-то Егора Евстигнеича, на что тот мотнул головой и, бросив на него вкось недоумевающий взгляд, выговорил отрывисто:
– Подожди маленько.
Против крылечка выходило двухэтажное каменное здание, совсем уже городской новейшей архитектуры, оштукатуренное, розоватое, с фигурными украшениями карнизов. Он знал от станового, что местный попечитель богадельни, купец-мучник, еще не вернулся с ярмарки, но жена его, наверно, будет тут, в молельне или в богадельне.
Прошло не меньше пяти минут. На крылечко сначала выглянул молодой мужик, с выстриженной маковкой, в темном кафтане и также с лестовкой, увидал Теркина и тотчас же скрылся.
Пение все еще доносилось из молельни.
Вышел другой, уже пожилой, такой же рослый раскольник, вероятно, из «уставщиков», и быстро приблизился к Теркину.
– Вы к Егору Евстигнееву? – спросил он его и вскинул волосами, спустившимися у него на лоб. Маковка была также выстрижена.
– Можно в молельню?.. Меня господин становой прислал… Только я не чиновник, – прибавил Теркин, а желал бы так войти, послушать вашей службы и осмотреть богадельню.
Уставщик опять тряхнул волосами.
– Что ж… войдите!..
Взглядывал он не особенно приветливо, но ничего злобного в его тоне не сквозило.
Вслед за ним Теркин вошел через боковую дверь в молельню. Она оказалась полной народа. Иконостас, без алтаря, покрывал всю заднюю стену… Служба шла посредине, перед амвоном. Отовсюду блестела позолота икон и серебро паникадил. Ничего бросающегося в глаза, не похожего на то, что можно видеть в любой богатой православной часовне или даже церкви, он не заметил… Вокруг аналоя скучились певцы, все мужчины. Их было больше тридцати человек. Глубина молельни, где чернели платки и сарафаны женщин, уходила вправо, и туда Теркину неудобно было смотреть, не оборачиваясь, чего он не хотел делать… Показалось ему, что и остальные богомольцы подпевали хору. В пении он не замечал никакого неприятного и резкого «гнусавенья», о каком слыхал всюду в толках о раскольничьей службе. Читали внятно, неспешно, гораздо выразительнее, чем дьячки и дьяконы в православной службе, даже и по городам.
Долго стоять было неловко: на него начали коситься. Он заметил пронзительный взгляд одной богомолки, из-под черного платка, и вспомнил, как ему отец эконом, когда они ехали в долгуше к становому, в разговоре о раскольницах-старухах сказал:
«Встретится с вами на улице, так вас глазами-то и ожжет всего».
Служба уже отходила. Впустивший его уставщик вышел с ним на крыльцо.
– Мне бы в богадельню… Попечителя супруга, может быть, здесь?
– Они как раз прошли туда. Пожалуйте.
В нижнем этаже, из крытых сеней с чугунной лестницей он попал в переднюю, где пахло щами. Его встретила пожилая женщина, в короткой душегрейке и в богатом светло-коричневом платке, повязанном по-раскольничьи. Это и была жена попечителя. Несколько чопорное выражение сжатого рта и глаз без бровей смягчалось общим довольно благодушным выражением.
Уставщик подвел к ней посетителя и тотчас удалился.
– На сколько у вас кроватей?
– Да теперь, сударь, шешнадцать старух у нас…. Вот пожалуйте.
В двух светлых комнатах стояли койки. Старухи были одеты в темные холщовые сарафаны. Иные сидели на койках и работали или бродили, две лежали лицом к стене и одна у печки, прямо на тюфяке, разостланном по полу, босая, в одной рубахе.
Это сейчас же отнесло его к тому сумасшедшему дому, где его держали десять лет назад.
– Она слабоумная? – тихо спросил он попечительницу.
– Совсем разбита… Не может ни ногами, ни руками двинуть… С ложки кормим.
– И доктор бывает?
– Нет, сударь, мы обходимся своими средствами… Которым недужится – годов много… Вот этой девятый десяток идет и давненько уж как пошел.
На койке сидела согнувшись старуха в белом платке и темно-синем сарафане.
Теркин поражен был остатками красоты ее совсем желтого, точно костяного лица. Только одни глаза с сильными впадинами и жили в этой мумии. Она взглянула на него молча и долго не отводила взгляда… Ему стало даже жутко.
– И еще здорова?
– Какое уж здоровье… Да у ней ничего и не узнаешь… Молчит по целым дням…
Когда он прощался с попечительшей, появились две бабы – сиделка и стряпуха. Они глядели на него скорее приветливо, обе толстые, с красными лицами.
– Вот и вся моя команда, сударь! – указала на них попечительша.
– Женское царство!
– Так точно.
Попечительша усмехнулась и почтительно проводила его на двор, где и поклонилась низким, истовым поклоном.
Ничего «особенного» не вышло из этого посещения молельни. В себе он никогда не знал вражды или гадливого чувства к раскольникам. Все у них было, как и быть следует в молитвенном доме, довольно благообразно. Но ни к их начальникам и уставщикам, ни к толпе простых раскольников не тянуло. Не менять же веры? И ничего у них не найдешь, кроме обрядов да всяких запретов. А там копни самую суть – и окажутся они такими же «сухарниками», как то согласие, в которое совратилась мать Серафимы… Либо беглый поп-расстрига сидит у них где-нибудь в подклети, пока наставники и уставщики служат на глазах у начальства.
Никакого душевного интереса не нашел он в себе и на квартире «миссионера», на вид шустрого мещанина, откуда-то из-за Волги, состоящего на жалованье у местного православного братства, из бывших раскольников поморской секты.
Теркин почему-то усомнился в его искренности и не стал много расспрашивать про его борьбу с расколом, хотя миссионер говорил о себе очень серьезным тоном и дал понять сразу, что только им одним и держится это дело «в округе», как он выражался.
Ни законная святыня, ни терпимая только раскольничья не захватывали. Нет, не находил он в себе простой мужицкой веры, но доволен был тем, что в Кладенце, в эти двое суток, улеглось в нем неприязненное чувство к здешнему крестьянскому миру… Он даже обрадовался, когда его хозяин, Мохов, предложил ему потолковать об их общественных делах с двумя-тремя его сторонниками, из самых «почтенных» обывателей. Их пригласили к вечернему чаю; хозяин был вдовый и бездетный, вел теперь большую торговлю мясом, коровьим и постным маслом.
Теркин сам просил его не церемониться и соснуть, по привычке, часок-другой. Вообще хозяин ему понравился и даже тронул его теплой памятью о своем «однообчественнике» – Иване Прокофьиче.
XXXVIIЗа чаем, в одной из парадных комнат, сидели они впятером. Хозяин, на вид лавочник, черноватый моложавый человек лет за пятьдесят, одетый «по– немецки», с рябинами на смуглом лице, собранном в комочек, очень юркий и ласковый в разговоре. Остальные больше смотрели разжившимися крестьянами, в чуйках и высоких сапогах. Один из них, по фамилии Меньшуткин, был еще молодой малый. Двое других прозывались Шараев и Дубышкин.
Мохов уже ознакомил своего гостя и постояльца с положением их «обчественных делов». Все они ругали бывшего старшину Малмыжского, которому удалось поставить себе в преемники своего подручного, такого же «выжигу» и «мошейника», и через него он по-прежнему мутит на сходах и, разжившись теперь достаточно, продолжает представлять из себя «отца– благодетеля» кладенецкой «гольтепы», спаивает ее, когда нужно, якобы стоит за ее нужды, а на самом деле только обдирает, как самый злостный паук, и науськивает на тех, кто уже больше пятнадцати лет желает перейти на городовое положение.
Все эти разоблачения перенесли гостя к тому времени, когда, бывало, покойный Иван Прокофьич весь раскраснеется и с пылающими глазами то вскочит с места, то опять сядет, руками воздух режет и говорит, говорит… Конца его речам нет…
И все его речи вертелись около этих самых «обчественных делов». И тогда, и теперь его «вороги» держали сходы в своих плутовских лапах, спаивали «голытьбу», морочили ее, подделывали фальшивые подписи на протоколах сходок, ябедничали начальству; таких лиц, как он, выставляли «смутьянами» и добивались приговоров о высылке на поселение.
– Почему же вы не отделитесь от них? – спросил Теркин, когда достаточно наслушался обличений и доводов хозяина. Остальные трое только поддакивали ему.
– Сколько раз пробовали! – воскликнул Мохов и тряхнул своими курчавыми волосами.
– Мало ли хлопотали! – отозвался еще кто-то.
– И что же?
– Не дают ходу. Начальство, и здешнее, и губернское, на стороне наших ворогов.
– Однако какие же причины приводят?
– Видите ли, обеднеет крестьянство. Опять же здесь, как вы изволите знать, два обчества… Одно-то и подается. То дальше, вон где двор Ивана Прокофьича стоял… А другое – графская вотчина, где базарная площадь и все ряды. Тут самая драная грамота. Лавки еще у графского эконома выкуплены были, акты совершались, и потом, при написании уставной грамоты, все это было утверждено. Теперь же гольтепа и ее совратители гнут на то, чтобы заново с нас же содрать выкуп… Платить, видите ли, им же надо, сельскому обществу, вдругорядь… Коли мы-де на городовое положение сядем, тогда что же нам с вас содрать? Вы-ста городскую управу учредите и нами командовать будете. Откупайтесь, коли хотите, заново капитал нам положите обчественный и живите себе.
– По-моему, – заметил Теркин, – вам так бы было удобнее.
– Что вы? Василий Иваныч! Батюшка! – воскликнул хозяин и вскочил с места. – Да вы нешто не знаете здешних разбойников? Примерно, мы все, торговцы, согласимся и откупимся… Они нас доедут всячески! Первым делом мы все-таки на городовое положение не сядем. Для этого надо общий приговор с узаконенным числом голосов. Нам останется одно: приписаться к мещанству и к гильдии. Так некоторые и сделали. А ежели мы все, торгующие в рядах и на площади, сообща откупимся, мы к ним в кабалу попадем… Примеры-то бывали. Они нас воды лишат.
– Как воды лишат? – спросил Теркин.
– Очень просто, Василий Иваныч. Отрежут ход от реки. Такие примеры бывали!.. Караулить будут… Не пущать к реке.
– И доведут до точки!
– Беспременно!
– Да позвольте, господа, – заговорил Теркин, – может, и в самом деле здешнему бедному люду придется еще хуже, когда Кладенец будет городом?.. Ведь я, хоть и давно на родине не бывал, однако помню кое– что. Кто не торговец, тоже пробавляется кустарным промыслом. Есть у вас и сундучники, посуду делают, пряники, шкатулочники прежде водились.