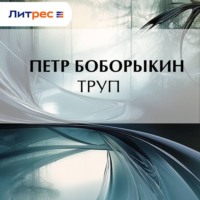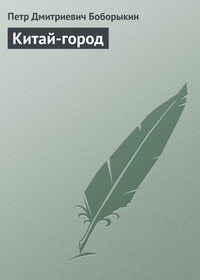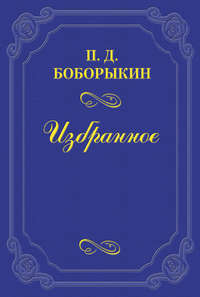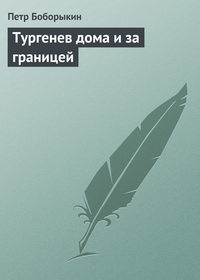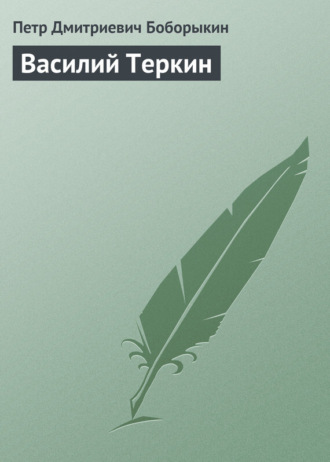 полная версия
полная версияВасилий Теркин
– Как же!.. Еще капитан – такой душевный человек… даром что побывал в тундрах Севера!..
Казначей подмигнул и засмеялся.
Земец, знакомый Теркина, выдал его: прописал в своем письме, что он – пароходчик. Теркину не хотелось до поры до времени выставляться, да и не с тем он шел сюда, в келью игумена. Он мечтал совсем о другой беседе: с глазу на глаз, где ему легко бы было излить то, что его погнало в родное село. А так, сразу, он попадал на зарубку самых заурядных обывательских разговоров… Он даже начал чуть заметно краснеть.
– Наш знакомец, – заговорил еще бойчее настоятель, – извещает меня про одно дело, касающееся обители, – он повел головою в сторону казначея, – и всячески обнадеживает насчет нашего ходатайства в губернской управе по вопросу о субсидии для училища. – Казначей крякнул. – Вдвое лестно было познакомиться! – Настоятель повернулся к гостю, указывая на него рукой, прибавил опять в сторону казначея: – Им желательно было и нашу обитель посетить.
Настоятель выражался очень свободно; подвижность и тон речи показывали в нем очень бывалого человека, не без книжного образования.
– Где же изволили остановиться и надолго ли? – спросил казначей, допил чай и покрыл чашкой блюдечко, низом вверх.
Теркин рассказал, как он вчера искал ночлега.
– Да почему же вы, Василий Иванович, ко мне прямо не въехали?.. Знакомец ваш даже и говорит в письме своем, чтобы вам оказать гостеприимство.
– Поздно было, отец настоятель, не хотел вас беспокоить.
– Сколько же деньков еще пробудете у нас? – спросил казначей.
– Как придется… Денька два-три.
– По делам?
На вопрос казначея Теркин не сразу ответил. Он не хотел скрывать дольше, что он здешний, кладенецкий, приемыш Ивана Прокофьича Теркина. Ему показалось, что настоятель раза два взглянул на него так, как будто ему фамилия его была известна, может, и все его прошедшее, вместе с историей его отца.
В монастыре у обедни он в детстве не бывал; если и брали его – он не помнит. Гимназистом наверно не заглядывал сюда; а потом протекло десять лет – Кладенец совсем перестал существовать для него. Он не слыхал, давно ли этот настоятель правит здешним монастырем и мог ли он лично знать Ивана Прокофьича.
– Дел у меня нет в Кладенце, – тихо начал он и поглядел на обоих монахов. – Это моя родина, и я ее по разным причинам упустил из виду.
– Так, значит, я не ошибся! – возбужденно сказал настоятель. – Ваша фамилия сейчас мне напомнила… Вот отец казначей здесь внове, а я больше пятнадцати лет живу в обители. Прежде здешние дела и междоусобия чаще до меня доходили. Да и до сих пор я имею сношения с местными властями и крестьянскими н/абольшими… Так вы будете Теркина… как бишь его звали… Иван Прокофьич, никак… если не ошибаюсь?..
– Приемный его сын, – вымолвил Теркин и опять поглядел на обоих монахов.
В узких серых глазах настоятеля промелькнула усмешка тонкого человека, который не стал бы первый расспрашивать об этом гостя, касаться его крестьянского рода.
– Все же похвально, – настоятель кивнул опять головой в сторону казначея, – с родиной своей не прерывать связи, ежели Богу угодно вывести на торную дорогу честных стяжаний и благ земных! – И, не выдержав тона этих слов, настоятель наклонился к гостю и договорил потише: – Про одиссею Ивана Прокофьича много наслышан…
«Знаешь небось, что меня высекли в приказе», – подумал Теркин, но тотчас же устыдился этой тревоги и сказал спокойно и мягко:
– Он свою жизнь прожил без пятна.
Казначей встал, поблагодарил попадью за чай и, наклонивши голову к настоятелю, спросил:
– Не попозднее ли зайти?
– Побудьте с Пелагеей Ивановной, а мы с дорогим гостем побеседуем маленько… Василий Иваныч! Не соблаговолите ли пожаловать ко мне, туда… Пелагея Ивановна, чай-то гостю пришлите в кабинет, с Митюнькой.
Настоятель взял Теркина под руку и повел его в первую комнату. С порога он крикнул мальчику:
– Стакан чаю сюда подай! Слышишь?..
XXXII– Курить не желаете ли? – предложил настоятель, как только посадил Теркина у стола, а сам сел по другую сторону. – Что ж чай-то? – крикнул он в дверь.
Мальчик, подавая стакан чаю на подносе, сделал неловкое движение, стакан опрокинулся, и брызги попали на рукав гостя.
– Эх! Остолоп какой! – дал на мальчика окрик настоятель.
Тот покраснел вплоть до ушей, и его глаза от смущения совсем посоловели.
– Ничего, ничего! – успокаивал Теркин.
– Право, остолоп! Живо другой стакан!.. Пожалуйста курите, Василий Иваныч… Мы ведь не раскольники, – прибавил настоятель и громко рассмеялся. – Душевно рад, – продолжал он, наклоняясь к гостю через стол, – что вы надумали родные Палестины посетить… Скажите, пожалуйста: родитель ваш… тогда… пострадал по наветам врагов своих?.. Ну, не облей в другой раз! – крикнул он мальчику, трепетно подававшему чай. – И ступай!.. Я об этих делах довольно наслышан был от одного из благоприятелей вашего отца. Чай, помните? Мохов, Никандр Саввич!..
– Помню: черноватый, приземистый…
– Теперь как раздобрел!.. И по нашему Кладенцу первый, можно сказать, воротила в земских собраниях и в здешних волостных делах… Нашего братства один из попечителей.
– Братства? – переспросил Теркин.
– А вам не известна деятельность нашей обители, Василий Иваныч?
– Виноват!
– Чт/о мог, я слабыми своими силами успел привести к вожделенному концу. Но хотелось бы и побольше… Монастырь наш заштатный, казенного содержания не имеет…
– На что же вы существуете, отец настоятель?
– Есть кое-какие угодья: землица луговая и пахотная, мельница на несколько поставов… Моими стараниями приведена в возможно лучшее положение. Подворье имеется в губернии… и часовня на ярмарке… Хлопочу о построении таковой же в одной из наших столиц, около вокзала, например, где происходит наибольшее стечение народа.
Глаза настоятеля забегали.
«Ловкий ты мужик! – подумал про себя Теркин. Тебе бы впору и всей кладенецкой торговлей ворочать».
– На что же, сами рассудите, Василий Иваныч, не токмо что уж поддерживать наши разные учреждения, а братию питать?.. У нас в обители до пятидесяти человек одних монашествующих и служек. А окромя того, училище для приходящих и для живущих мальчиков, лечебница с аптекой… Только с прошлого года земство свою больницу открыло… И бесплатную библиотеку имеем при братстве, – значит, под сенью нашей же обители; открыли женское училище.
– Неужели до сих пор нет в Кладенце казенного или земского училища? – спросил Теркин, и ему стало совестно, что он этого доподлинно не знал.
– Есть… И образцовое двуклассное, и еще две школы в слободах; но ведь это в самое последнее время заведено; а прежде – вы, чай, сами помните – хоть шаром покати… Раскольничьи черницы да солдаты безграмотные учили по Псалтири… Опять же при братстве происходят беседы, ввиду борьбы с расколом, и поучительные чтения светского характера.
Настоятель откинул длинную прядь за ухо и немного покраснел. Видно было, что он попал на свою любимую тему.
– Не заштатным бы нашему монастырю следовало быть, а ставропигиальным, ибо он из самых старейших… Вы изволите интересоваться здешней стариной?
– Кое-что слыхал от отца, а читал мало…
– Ведь без кладенецкой обители и Нижнего бы не было. Предок Александра Невского, святитель Симон, уже после того, как княжой стол утвердился на Дятковых горах, заложил город, который, и назвали Нижним в отличие от Верхнего или Великого Новогорода… И сколько иноками нашей обители и святителями кладенецкими обращено было язычников! Ведь здесь повсюду черемисы и мордва жили, а дальше по Волге и Каме были становища приречных болгар, самых первых тогда врагов русских людей.
– Слыхал, слыхал от отца.
– И вот видите, какой оборот судеб. Болгар православные князья русские нещадно били и отводили в полон, а семьсот лет спустя за тех же самых болгар сколько русской крови пролито!.. Наш Кладенец наполовину населен был пленниками… Ведь верхняя-то слобода – она самая старейшая, по ту сторону вала, где собственно город был – до сих пор в народе слывет Полонной. На что же это указывает? Да и в жителях Кладенца есть совсем разные два облика. Одни белокурые – вот, хоть бы и вы, а другие – смуглые, и волосы черные, плоские. Эти прямо от черемис и болгар камских и волжских.
Опять Теркин, слушая складную речь настоятеля, унесся мыслями в судьбы своего родного села.
– А испытания какие Господь посылал на Кладенец… Татарский погром обрушился на наш край после разорения Владимира на Клязьме… Пришла гибель Кладенцу. Его князь один из немногих не пал духом и пошел на врагов и погиб в рядах своей рати… Шутка сказать, когда это было: пятьсот с лишком лет назад… И хан Берку чуть опять не истребил нашего города, и царевич татарский Драшна грозил ему огнем и мечом!
– И все это пережила ваша обитель!
– Как видите, стоим все на том же месте, куда и достославный угодник земли русской, князь Александр Ярославич Невский, приходил на поклон иконе Пресвятой Девы… И после ига татарского, и после упразднения стола князей кладенецких обитель наша под охраною Владычицы не оскудевала… Чт/о сталось с татарами?
– Халаты продают!
– Именно! – Настоятель громко рассмеялся. – А что они и у нас долгое время хозяйничали, на это до сей поры есть указания. Изволите помнить пригорок-то, позади бывших прядилен, зовется «Баскачиха». Значит, там баскаки ханские проживали и производили свои зверские вымогательства.
Настоятель сдержал себя и спросил:
– Коли вам желательно ознакомиться с нашими посильными трудами, я с великой радостью… У меня и к печати приготовлено кое-что для губернских ведомостей. Ежели угодно, так я велю позвать отца эконома: отец-то казначей должен по делу маленько отлучиться.
– Вы не беспокойтесь, – перебил Теркин, – я к вам еще заверну… завтра утром.
– А спервоначалу желаете… праху родителей поклониться… панихидку отслужить?
– Они не здесь лежат, – ответил Теркин. – Отец после ссылки выселился отсюда.
– И домик свой оставил. Продал, что ли?
– Да, он у него давно был собственный, еще при графском управлении.
– А теперь кто им владеет?
– Не знаю, право, в точности.
– Так вам надо первым делом к Мохову, Никандру Саввичу. Его дом не изволите знать где?
– Нет, не знаю. За мной сюда извозчик заедет… Николаем зовут.
– Он довезет. А во всяком случае отец эконом вам укажет. Вот я сейчас спосылаю за ним. У него досуг найдется. К Мохову первым делом. Он вас к себе перетащит, коли моей кельей не угодно будет воспользоваться… И в училище, и в земскую больницу он вас свезет.
– С раскольничьей молельной вы, разумеется, не находитесь в сношениях?
– Она нас чурается, а не мы ее. Однако с попечителем ее – слыхали, чай, на ярмарке – с богатеем Кашедаевым, встречались и беседовали… Он им и богадельню возвел на дворе молельни. Если поинтересуетесь, отец эконом познакомит вас с миссионером из бывших старообрядцев; поди, он еще не уехал вверх по Волге на собеседование… Проще к становому заехать: он вам даст от себя рекомендацию к одному из начетчиков. Они с полицией нынче в ладах живут, – прибавил настоятель, тонко усмехнувшись.
– А распри в крестьянском обществе все по-прежнему? – спросил Теркин и поднялся со стула.
– Все те же междоусобия. Одни гнут на городовое положение – и во главе их Никандр Саввич. Он вам все расскажет обстоятельно.
– Ссудосберегательное товарищество рухнуло?
– Давным-давно. Только одна пущая смута и плутовство великое вышли. И хороший молодой человек из-за этого дела загубил себя.
Теркин сейчас же вспомнил и спросил:
– Тот? Аршаулов? Почтмейстера сын?
– Он, он! Сколько лет, – настоятель сразу понизил тон, – сидел в заточении и провел в ссылке, да и теперь находится под присмотром, в бедственном положении.
– Где?
– Здесь, никак! Мать – старуха, должно, имеет в Кладенце пенсию ничтожную. Вымолила у начальства сюда его, знаете, на место жительства перевести. Так ведь пить-есть надо, а у него, слыхал я, чахотка. Какой же работой, да еще здесь, в селе, может он заняться? Уроки давать некому, да он, поди, еле жив.
Глаза Теркина возбужденно замигали.
– Где же мог бы я, отец настоятель, справиться о нем? Судьба его достойна сострадания!
– Где? – протянул настоятель. – Да первым делом у станового. Ведь это его подначальная команда – такие-то господа. Становой у нас не спесивый и довольно но обстоятельный. Фамилия – Вифанский, Мартирий Павлович.
– Из духовного звания?
– Весьма! – Настоятель подмигнул. – Сейчас и по говору увидите. Из здешних же заволжских палестин. Так я сейчас распоряжусь, Василий Иваныч.
Настоятель подошел к двери в гостиную и крикнул:
– Отец казначей!.. повремените еще маленько.
Потом он послал служку за экономом.
– Вот и ваш извозчик! – он указал Теркину в окно на двор, куда въехал Николай на своей долгуше.
XXXIII– А где твой двор, Николай?
Извозчик попросил у седока позволения заехать домой «попоить лошадку». Они уже побывали в разных местах и отца эконома подвезли обратно к монастырю.
– Вон на самой круче, кормилец. Дальше и дороги нет! – ответил Николай, указывая кнутом.
– Ладно, над нами не каплет.
Побывали они с отцом экономом, тихим стариком из простого звания, сначала в образцовом училище и в земской больнице, потом заехали на квартиру станового. Его не оказалось дома: куда-то отлучился, на селе; но к обеду должен был вернуться; оставили у него записочку от отца настоятеля. Заехали к Мохову. Тот тоже уехал на пристань. Предлагал эконом побывать и у миссионера, коли желательно насчет раскола побеседовать, но Теркин отложил это до другого раза. Ему захотелось остаться одному, да и монаху пора было к трапезе. От монастыря спустились они к тому проулку, где стоял двор Ивана Прокофьича. На перекрестке Теркин сошел с долгуши и сказал Николаю, чтобы он подождал его около номеров Малыш/ова, а сам он дойдет туда пешком. Сердце у него заекало в груди, когда он стал спускаться по проулку… Вот забор вдоль сада одного раскольника, богатого торговца, с домом на дворе. Тот же мезонин выглядывает из-за лип сада, только крыша зеленая, а не буро-красная, какою прежде была. Дорога врезалась в пригорок, и два порядка, справа и слева, поднимаются над нею. Избенки все больше в три окна, кое-где в пять, старые, еще «допожарные», как здесь называют. Эта возвышенная часть Кладенца и есть та «Полонная», где, по толкованию отца настоятеля, селились взятые «в полон» инородцы – мордва, черемисы, камские и волжские болгары. Теркину вспомнились лицо, рост и вся посадка Ивана Прокофьича; они выплыли перед ним до такой степени ярко, точно он смотрит на него на расстоянии двух аршин. Было в нем, в его неправильных чертах, пожалуй, что-то инородческое, не коренное русское. Может, и пылкий свой нрав он унаследовал от какого-нибудь предка, жившего в лесах и пещерах еще при Александре Невском или Юрии Всеволодовиче, князе кладенецком.
И жалость к старику разлилась по нем, – жалость и сознание своей собственной дрянности. Разве Иван Прокофьич способен был пойти на такие сделки с совестью, на какие он пошел?.. И если он теперь отделался от срама – от денег Калерии, все-таки он на них в один год расширил свой кредит, пошел еще сильнее в гору. А старик его не знал никакой жадности, еле пробивался грошовым спичечным заведением, поддерживал бедняков, впал сам в бедность: если б не сын, кончил бы нищетой, и даже перед смертью так же радел о своих «однообщественниках».
Еще два-три двора – и справа должен был показаться продолговатый сарайчик, где помещалось заведение с узкими оконцами… Не доходя был частокол с проделанной в нем лазейкой. Туда ему мальчишкой случалось проникать за подсолнухами. Вот и частокол, только он теперь смотрит исправнее, лазейки нет.
Этот ли сарайчик? Должен быть он… Места занимает он столько же, только окна не такие и крыша другая, приподнята против прежнего. Однако старые крепкие бревна сруба те же, это сейчас видно. Домик в три окна, как и был, только опять крыша другая, площе, больше на городской фасон, и ворота совсем новые, из хорошего теса, с навесом и резьбой. Им, судя по цвету леса, не будет и пяти лет. Улица стояла пустая. Не у кого было спросить: чей это теперь двор? Он помнил, что Иван Прокофьич продал его какому-то мужику из деревни Рассадино, по старой костромской дороге, верстах в десяти от Кладенца, и продешевил, как всегда. Тот мужичок хотел тоже наладить тут какое-то заведеньице, кажется, кислощейное, для продажи на базарах квасу и кислых щей, вместе с ореховой «збоиной» и пареной грушей.
Захотелось ему войти в калитку, совсем по-детски потянуло туда, на дворик, с погребицей в глубине и навесом и с крылечком налево, где, бывало, старуха сидит и разматывает «тальки» суровой пряжи. Он тут же, за книжкой… По утрам он ходил к «земскому» и знал уже четыре правила. Из сарайчика идет запах серы, к которому все давно привыкли.
Он взялся за щеколду калитки и хотел отворить.
Заперто было изнутри. Пришлось постучать.
– Кто там? – спросил со двора мужской очень мягкий голос.
Называть себя Теркин не хотел. Он скажет хозяевам что придется.
– Отворите, пожалуйста! – крикнул он.
Калитку стали осторожно отворять.
«Наверно, раскольники», – подумал он, переступая через высокий дощатый порог калитки.
Его впустил хозяин, – это сейчас узнал Теркин, рослый, с брюшком, свежий еще на вид мужик лет под пятьдесят, русый, бородатый и немного лысый, в одной ситцевой рубахе и шароварах, с опорками на босых ногах… Глаза его, ласковые, небольшие, остановились на незнакомом «барине» (так он его определил) без недоверия.
Теркин быстро оглядел, что делалось на дворе. В эту минуту из избы в сарайчик через мостки, положенные поперек, переходил голый работник в одном длинном холщовом фартуке и нес на плече большую деревянную форму. Внизу на самой земле лежали рядами такие же формы с пряничным тестом, выставленным проветриться после печенья в большой избе и лежанья в сарайчике.
В один миг Теркин догадался, какое это заведение. Пряники – коренное дело Кладенца. Испокон века водилось здесь производство коврижек и, в особенности, дешевых пряников, в виде петушков, рыб и разных других фигур, вытисненных на кусках больше в форме неправильных трапеций, а также мелких продолговатых «жемков», которые и он истреблял в детстве. Сейчас, по памяти, ощутил он несколько едкий вкус твердого теста с кусочками сахара.
– Бог в помочь! – сказал он. – Вот полюбопытствовал посмотреть на ваше заведение… Я – приезжий.
Хозяин улыбнулся добрейшей усмешкой широкого рта, засунул засов и поклонился легким наклоном головы.
– Пожалуйте… Поглядите, коли желательно. И сразу между ними вышел бытовой разговор, точно будто он в самом деле был заезжий барин, изучающий кустарные промыслы Поволжья, и пряничный фабрикант стал ему, все с той же доброй и ласковой усмешкой, отвечать на его расспросы, повел его в избу, где только что закрыли печь, и в сарайчик, где лежали формы и доски с пряниками, только что вышедшими из печи.
Черная изба осталась почти такою, как была и десять лет назад; только в ней понаделали вокруг стен таких столов, как в кухнях. В чистые две горницы хозяин не водил его; сказал, что там он живет с сыном; работники летом спят в сарае, а зимой в избе. Теркин посовестился попросить провести и туда.
– Я – вдовый, один всего сынок и есть.
Хозяин указал на сына, – «молодцов» у него было всего четверо, – худощавого брюнета лет двадцати, с умными впалыми глазами. И тот был голый, как и остальные трое уже пожилых работников.
– Он у меня искусник, – прибавил хозяин. – Сам режет формы… Миша! Покажь барину ту форму, что намнясь вырезал.
Слово «барин» резнуло Теркина. Но он не хотел называть своей фамилии, говорить, чей он был приемыш… Неопределенное чувство удерживало его, как будто боязнь услыхать что-нибудь про Ивана Прокофьича, от чего ему сделается больно.
Показали ему форму с разными надписями – славянской вязью и рисунками, которые отзывались уже новыми «фасончиками». Он пожалел про стародавние, грубо сделанные наивные изображения.
Но он похвалил искусника, не желал его обескураживать.
– Как вы прозываетесь? – спросил он у отца.
– Птицыны мы, батюшка, Птицыны.
Узнал он, продолжая вести себя как заезжий «барин», что в день идет у них до пяти кулей крупичатой муки, а во время макарьевской ярмарки – и больше.
Потом показали ему разные сорта пряников. Хозяин отобрал несколько штук из тех, на которые указывал Теркин, и поднес ему. Тот не хотел брать.
– Обидите нас, батюшка… Ведь эти прянички всего десять копеек фунт. Деткам отдадите.
– Деток-то у меня нет.
– Все едино! Безделица!
И так он ласково глядел, что нельзя было не взять.
Но главного-то Теркин еще не знал – сам ли Птицын купил у Ивана Прокофьича двор.
– Вы здешние, коренные? – спросил он попроще.
– Нет, батюшка, мы рассадинские. Там у нас и землица порядочная есть. Здесь из-за этого дела проживаем.
– Купили двор?
– Арендатели мы… А купил-то из Рассадина же мужичок. У здешнего… Теркиным прозывался… Вот здесь спички делал… Сказывают – заведение у него стало. Никак, на поселение угодил.
И по ясному лицу прошлась тень, точно будто он не хотел дурно говорить про бывшего владельца.
– Спасибо! – быстро промолвил Теркин, так же быстро отворил калитку и пошел вниз по проулку.
XXXIVНиколаева долгуша пробиралась по круче, попадая из одной выбоины в другую.
– Вон и моя избенка! – указал он на самый край обрыва.
Изба была последняя и стояла так, что сбоку нельзя уже было спуститься вниз: откос шел почти отвесно и грозил «оползнем», о каких рассказывали Теркину в детстве.
Когда они подъехали и Николай слез с козел, из ворот вышла его жена Анисья, женщина еще не старая на вид, небольшого роста, благообразная, в повойнике и ситцевом сарафане и, по-домашнему, босая.
Она отворила ворота, и Николай взял лошадь под уздцы. Долгуша въехала на крытый глухой двор, где Теркина охватила прохлада вместе с запахом стойл и коровника, помещавшихся в глубине. Стояли тут две телеги и еще одна долгуша, лежало и много всякой другой рухляди. Двор смотрел зажиточно. Изба – чистая, с крылечком. На ставнях нарисованы горшки с цветами, из окон видны занавески.
– Да у тебя жена-то еще молодуха, – пошутил Теркин, – а он тебя, тетка, старухой зовет.
– Известно, – ответила в тон хозяйка и тихо улыбнулась поблеклыми умными глазами. – Ему же ловчее… На молоденьких-то поглядывать.
– Да который тебе годок?
Теркин слез и присел на крылечке.
– Много ей годов, не меньше мово! – отозвался Николай, с ведром в руках подходивший к лошади.
– Прибавляет? – спросил Теркин и подмигнул. Ему эта крестьянская чета нравилась.
– Много ли? Шестой десяток пошел.
– И неужели много детей выкормила и выходила?
– Выходить-то выходили, – ответила она и характерно повела губами, – только не своих.
– Как так?
– Своих-то у нас не было, господин, – опять откликнулся Николай от лошади. – Трех приемышей брали… и все девок…
– А теперь опять одни остались, – выговорила хозяйка.
– Замуж повыдали?
– Нешт/о!
– У двух уж дети свои, – добавил Николай.
– Вот тебе, поди, и скучненько бывает? – спросил Теркин.
– Мало ли што!
– Здесь, в Кладенце, выдали?
– Одну здесь.
– Значит, внучки все равно есть, хоть и не кровные.
Теркин вынул из кармана сверток с пряниками и подал хозяйке.
– Снеси внучке.
– Благодарствуем.
– Ты где же это, кормилец, пряники-то добыл? Мне и невдомек! – обратился к Теркину Николай.
Лошадь его все еще пила из ведра.
– На фабрику заходил! – весело ответил Теркин.
– Не к Птицыну ли, к Акинфию Данилычу?
– К нему самому.
– А я думал… так… за надобностью куда… Значит, у Птицына были, заведение его посмотреть… Намедни я одного барина возил, тоже полюбопытствовал… Сколько здесь теперь заведеньев… противу птицынского нет ни одного, даром что он не коренной кладенецкий.
– Понравился вам Акинфий Данилыч? – спросила хозяйка.
– Душевный человек… Ласковый такой…
– Это верно, – отозвался Николай, – добрейшей души. И сколько народу им кормится на базаре да и по деревням торговки, разносчики. Никому не откажет, верит в долг. Только им и живы.
– Он не по старой вере?
На вопрос Теркина Николай оставил ведро и немного почесался.
– Как сказать, мы в это не входим… Сын – от… чай, видели… такой худощавый из себя парень, – большой искусник по своей части… Тот, поди, куда-нибудь гнет… Только они к здешней молельне не привержены.
Теркин вынул папиросу и спросил:
– А курить у вас не зазорно, тетка?
– Курите, батюшка, мы ведь не раскольники.
Возглас Николая почему-то вызвал в Теркине сильное желание поговорить с этой четой по душе о самом себе, об отце, о том, зачем он проник во двор пряничного заведения.