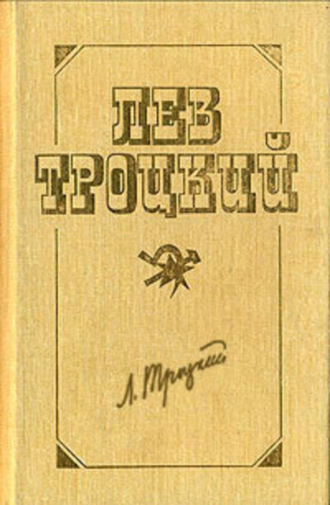 полная версия
полная версияПроблемы культуры. Культура переходного периода
С этим переломом тесно связано другое обстоятельство. Кое-какие действительные или мнимые «духовные аристократы» изволили тревожиться по поводу того, что пришествие к власти рабочего класса будет означать господство невежественной ограниченности или, еще откровеннее, самодовольного хамства. Суровый опыт этих шести лет, со всеми его плюсами и минусами, одно, во всяком случае, показал всем, кто умышленно не закрывает глаз: чем прочнее становится рабочее государство, тем острее и нетерпеливее трудящиеся массы осознают нашу техническую научную, культурную отсталость, тем настойчивее стремятся преодолеть ее, создавая тем самым основную предпосылку для величайшего взмаха нашей научной мысли в более или менее близком будущем. Можно сказать, что рабочее государство – по крайней мере, в тех пределах, в каких его оставляют в покое – есть организованная борьба за культурность и культуру, а следовательно и за науку, как важнейший из рычагов культуры. Вот почему я думаю, что; несмотря на всю нашу нынешнюю отсталость, нет ничего утопического в постановке основной нашей цели – создания новой, социалистической культуры.
Социалистическое строительство есть, по самому существу своему, сознательное, плановое строительство, сочетающее – в небывалых ранее масштабах – технику, науку и продуманные общественные формы и методы их использования. В этом именно смысле я позволил себе сказать о пригонке научной работы к новым, т.-е. социалистическим, задачам нашего общественного развития. Одним из способов этой пригонки является преодоление не только замкнутости науки вообще, но и цеховой разобщенности внутри самой науки. Без специализации научной мысли нет движения вперед; но есть пределы, где эта специализация начинает подкапываться под основной ствол науки. Уже в буржуазном строе непроницаемые переборки между отдельными научными дисциплинами нередко становились и ощущались как барьеры на пути развития научной мысли в целом. Тем более это правильно в отношении социалистической общественности, которая все процессы своего строительства должна параллельно превращать в объекты научного наблюдения, руководства и контроля. Наши разнообразные хозяйственные кризисы являются в значительной мере результатом того, что мы еще не научились выполнять эту работу как следует быть. По мере того, как научная мысль будет правильно оценивать и взвешивать разные факторы (технические, экономические и т. д.) и тем создавать условия для их планового согласования, кризисы станут все более отходить в прошлое, расчищая арену для роста продуманной и внутренне согласованной социалистической экономики и культуры. И поскольку на настоящем съезде объединены представители разных родов научного оружия, постольку съезд сам по себе является чрезвычайно ценным фактом научной культуры, шагом на пути сочетания профессиональной специализации с синтетическим охватом всех процессов и задач нашей жизни и нашей работы.
Социалистическое строительство в целом можно охарактеризовать как стремление рационализировать человеческие отношения, т.-е. подчинить их разуму, вооруженному наукой. Все научные дисциплины родились из потребностей общественного человека и так или иначе обслуживают их. Социализм нуждается поэтому во всех науках. Но в то же время социализм как творческое общественное движение имеет свою теорию общественного развития, которая является самостоятельной наукой в ряду других наук и, смею думать, не последней по важности среди них. Если биология немыслима ныне вне дарвинизма, со всеми, конечно, его дальнейшими завоеваниями и поправками; если сейчас немыслима научная психология без теории и методологии условных рефлексов, – то в такой же мере немыслима сейчас общественная наука вне и без марксизма. Без этой теории немыслимо сейчас ни правильно понять и оценить наши собственные удачи и неудачи на новом пути, ни разобраться в том хаосе, какой представляет из себя теперь капиталистический мир.
Выдвигать эту мысль побуждает меня, в частности, вышедший не так давно сборник двадцатилетних работ нашего академика Павлова об условных рефлексах. Эта поистине замечательная книга не нуждается на съезде русской науки в рекомендации – особенно со стороны профана, каким в вопросах физиологии является автор настоящего письма. И если я упоминаю здесь о труде нашего глубокого ученого-мыслителя, то только потому, что чувствую себя вынужденным с той же решительностью, с какой готов следовать за И. П. Павловым шаг за шагом в его системе условных рефлексов, выступить против него в тот момент, когда он, правда, лишь мимоходом, пытается установить взаимоотношение между вопросами физиологии и вопросами общественности. Академик Павлов считает, что только познание «механизма и законов человеческой натуры» – при помощи объективных, т.-е. чисто материалистических, методов – способно обеспечить «истинное, полное и прочное человеческое счастье». Задача устроения человека на земле возлагается, таким образом, целиком на плечи психофизиологии. «Пусть ум празднует победу за победой над окружающей природой, – говорит И. П. Павлов, – пусть он завоевывает для человеческой жизни и деятельности не только всю твердую поверхность земли, но и водяные пучины ее, как и окружающее земной шар воздушное пространство, пусть он с легкостью переносит для своих многообразных целей грандиозную энергию с одного пункта земли на другой, пусть он уничтожает пространство для передачи его мысли, слова и т. д. и т. д. – и, однако же, тот же человек, с этим же его умом, направляемый какими-то темными силами, действующими в нем самом, причиняет сам себе неисчислимые материальные потери и невыразимые страдания войнами и революциями с их ужасами, воспроизводящими меж-животные отношения. Только последняя наука, точная наука о самом человеке – и вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания – выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений».
Что жестокость, коварство, вероломство, насилие в сфере межлюдских отношений представляют собой позор, на этот счет не нам спорить с автором цитируемых строк. Но мы никак не можем согласиться с тем, будто бы естествознание – могущественное, но отнюдь не «всемогущее» – способно, путем проникновения в законы человеческой натуры, изменить общественные отношения, очистив их от теперешнего позора. Такая постановка вопроса, предполагающая, будто движущей причиной общественных отношений служат не объективные, материальные условия их развития, а дурные («темные») свойства отдельного человека, является, по существу, идеалистической и, стало быть, в корне противоречит тем материалистическим методам, которые нашли свое гениальное применение и в теории условных рефлексов. Если принять за причину общественных явлений природу отдельного человека, как довольно устойчивую систему абсолютных и условных рефлексов, чем же определяются в таком случае изменения общественного строя, его закономерная эволюция и революционные скачки, как необходимые моменты этой эволюции? Суть в том, что общество, как объективно-обусловленное производственное сочетание людей, вовсе не живет по тем законам, по которым сочетаются рефлексы в организме отдельного человека. Разумеется, без потребностей человека в пище и пр. не было бы общественного производства. Но общественное производство регулируется отнюдь не теми физиологическими законами, которые определяют усвоение белка человеческим организмом. Общество управляется общественными законами, которые подлежат такому же объективному, т.-е. материалистическому, установлению, как и законы, управляющие работой слюнных желез собаки. Можно было бы неоспоримо доказать – и это очень интересная и важная методологическая задача, – что марксизм по отношению к общественным явлениям занимает ту же позицию, что дарвинизм – по отношению к растительному и животному миру, а рефлексология – по отношению к психике. Проникновение в тайну условных рефлексов обогатит, без всякого сомнения, индивидуальную и общественную педагогику новыми могущественными средствами воздействия на человеческий характер. Но в каком направлении? В каких условиях? В каких целях? Это зависит целиком от общественной среды. Мы знаем, например, что психотехника, которая может получить серьезное обоснование только в рефлексологии, используется, и не без успеха, в военном деле, помогает производить отбор людей, индивидуальные особенности которых делают их более приспособленными к артиллерии, авиации или к химической войне. Другими словами, углубление наших познаний об индивидуальной человеческой природе позволяет лучше организовать дело истребления человека человеком, т.-е. то самое дело, которое мы все, вместе с И. П. Павловым, считаем величайшим позором нынешней человеческой культуры.
Физиология разделяет в этом отношении судьбу всех вообще естественных наук. Увеличивая мощь человека над природой, вооружая человека новыми техническими методами и средствами, естествознание делает тем самым человека более могущественным, а следовательно и более истребительным, в области борьбы между нациями и классами. Если бы трудящиеся согласились принять вывод, будто освобождение их придет через естествознание – без классовой борьбы и революции, – тогда, нет сомнения, буржуазия на известном уровне развития естественной науки пустила бы в ход такие методы психотехники, которые укрепили бы в эксплуатируемых рефлексы покорности, а у эксплуататоров рефлексы властвования. Но, к счастью, законы общественного развития исключают возможность того, чтобы трудящиеся массы стали на путь наивного педагогического идеализма. Они пойдут и дальше к своему освобождению тем единственным путем, какой предопределен историей.
Еще не так давно военное применение отравляющих веществ считалось недопустимым по так называемым нормам так называемого международного права. Это было в тот период, когда химия еще не могла предложить ничего серьезного по этой части. Мы знаем, однако, как радикально изменились воззрения насчет отравляющих газов в течение империалистической войны, особенно к концу ее. Химия принадлежит к тем наукам, которым предстоит сыграть первенствующую роль в процессе дальнейшего материального и духовного расцвета человеческой культуры. Но сейчас это нисколько не мешает ей, наряду с прокладыванием новых путей для сельского хозяйства и промышленности, т.-е. для дела поддержания человеческой жизни, изо всех сил своих служить делу людского взаимоистребления. И если бы нам, гражданам Советского Союза, даже и удалось очистить себя самих поголовно от всякой скверны, этим мы еще не высвободили бы себя из того империалистического кольца, которое мы крепко чувствуем на всех наших границах, и нимало не обезопасили бы себя от тех отравляющих веществ, которые фабрикуются химией на службе у буржуазии самых могущественных и цивилизованных стран.
Позор и трижды позор, что межлюдские отношения все еще разрешаются никелированными кусочками свинца, динамитными взрывами и волнами отравляющих газов. Но, до тех пор пока эти методы господствуют в мире, который до сих пор строился не по нашему выбору и не по нашим чертежам, мы не хотим и не смеем быть безоружными, если верим в то великое дело, которое поручено исторической судьбой нашим поколениям. Рабочее государство, сказали мы выше, есть организованная борьба за культурность и культуру; но эту мирную борьбу оно может вести с твердой надеждой на успех только при неутомимой и беззаветной обороне своих рубежей. Как в области мирного строительства, так и в деле военной обороны трудящиеся массы нашей страны нуждаются в сотрудничестве науки. Если никакая из научных дисциплин не может выскочить из условий общественной организации; если естествознание служит не только покорению природы, но и взаимоистреблению людей, – пусть же советская наука, пусть советское естествознание, руководя планомерным использованием естественных богатств нашей страны, поможет нам в то же время охранять границы нашего строительства и нашей культурной работы от непримиримых и беспощадных врагов. Пусть советская химия даст нам газы и противогазы, которые отбили бы у цивилизованных хищников охоту покушаться на нашу независимость и наш труд.
Если я столь резко выделяю химию, то это потому, что жестокие средства химической войны все более выдвигаются на первый план, требуя величайшего внимания к себе с нашей стороны. Теоретическая и практическая разработка вопросов химии, создание необходимой сети лабораторий и промышленных предприятий являются не только первостепенной задачей с точки зрения нашей промышленной деятельности, но и вопросом жизни и смерти – я нимало не преувеличиваю – в сфере нашей обороны.
Но дело, конечно, не ограничивается химией. Для обороны нужна авиация, нужна сильная промышленность вообще, нужна мощная сеть железных дорог, нужна неутомимая разработка вопросов техники, нужна наука во всех ее разветвлениях и применениях. До тех пор пока от позора войн не очищены межлюдские отношения; до тех пор пока мы вынуждены кровью прокладывать и обеспечивать себе дорогу в будущее, – мы хотим и будем драться хорошо. И в этой области мы твердо надеемся на всестороннее содействие научной мысли, которая определила свою общественную ориентировку в сторону трудящихся масс и их рабочего государства.
Красная Армия и Красный Флот горячо приветствуют ваш съезд!
«Правда» N 267, 24 ноября 1923 г.
Л. Троцкий. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ И МАРКСИЗМ
(Доклад четвертому Менделеевскому съезду по чистой и прикладной химии 17 сентября 1925 г.)
Порядок культурного наследования
Ваш съезд вклинивается в торжества по поводу 200-летнего юбилея Академии Наук.[88] Связь тут тем более тесная, что русской химии в венце академической славы принадлежит отнюдь не последнее место. Уместно, может быть, на этом съезде спросить себя: каков внутренний исторический смысл затянувшихся академических праздников? А этот смысл есть. И он никак не исчерпывается посещениями музеев, театров и банкетами. В чем же этот смысл? Не в том, разумеется, что иностранные ученые, любезно прибывшие к нам в гости, получили случай констатировать, что революция не разрушила научных учреждений, – наоборот, даже приумножила. Это свидетельство иностранных ученых само по себе имеет свою цену. Но смысл академического чествования все же шире и глубже. Я бы сказал так: новое государство, новое общество, опираясь на права Октябрьской революции, торжественно, на глазах всего мира, вступает во владение культурным наследием прошлого.
Сказав о наследовании, я должен оговориться, чтоб не было сомнений, в каком смысле это слово здесь употреблено. Было бы неуважением к будущему, которое для всех нас дороже прошлого, и было бы неуважением к прошлому, которое известными своими сторонами имеет право на глубокое уважение, – если бы мы говорили о наследовании без разбора. Не все в прошлом пригодно для будущего. И движение человеческой культуры совершается не простым накоплением, а знает как периоды органического роста, так и периоды суровой проверки, отсеивания и отбора. И трудно сказать, какие из этих периодов более плодотворны в общем развитии культуры. Во всяком случае, мы живем в эпоху отсеивания и отбора.
Римское право со времени Юстиниана[89] установило закон инвентарного наследования. В отличие от доюстиниановской юриспруденции, которая предоставляла наследнику право принимать наследство лишь со всеми долгами и обязательствами, инвентарное наследование давало наследнику известное право выбора. Революционное государство, олицетворяющее новый класс, является такого рода инвентарным наследником по отношению к накоплениям культуры. Скажем прямо: из тех 15.000 томов, которые изданы Академией за 200 лет ее работы, не все войдет в инвентарь социализма! Научное творчество прошлого, которым мы сейчас живем и которым мы гордимся, заключало в себе две совсем неравноценные стороны. В целом оно было направлено на познание сущего, на исследование законов мироздания, на обнаружение свойств и качеств материи, дабы тем лучше овладеть ею. Но познание развивалось не в замкнутой среде лабораторий и аудиторий, – нет, оно было функцией человеческого общества и отражало собою структуру последнего. Общество требовало познания природы для своих нужд. Но в то же время общество требовало утверждения себя в правах, оправдания своих учреждений, т.-е., прежде всего, учреждений классового господства, а ранее того – крепостного права, сословных привилегий, монархических прерогатив, национальной исключительности и пр. и пр. Социалистическое общество с особенной благодарностью приемлет колоссальное наследство положительных наук, отметая, по праву инвентарного выбора, все то, что служило не познанию природы, а оправданию классового неравенства и всякой иной исторической неправды.
Каждый новый общественный строй перенимал культурное наследие прошлого не целиком, а в соответствии со своей структурой. Так средневековое общество включило в христианство много элементов античной философии, подчинив их, однако, потребностям феодального режима и превратив их в схоластику, «служанку богословия». Так буржуазное общество унаследовало от средних веков, в числе прочего, христианство, но подвергло его реформации, мятежной – в виде протестантизма, или мирной – в виде приспособления католицизма к новому режиму. Во всяком случае, христианство буржуазной эпохи должно было посторониться настолько, чтобы очистить место для научного исследования, по крайней мере, в тех рамках, в каких это требовалось развитием производительных сил.
Отношение социалистического общества к научному и вообще культурному наследию еще менее является отношением безразличного, пассивного приятия. Можно сказать: чем с большим доверием социализм относится к наукам, посвященным непосредственному изучению природы, тем с большей критической подозрительностью подходит он к наукам и псевдонаукам, тесно связанным со структурой человеческого общества, с его экономической организацией, государством, правом, моралью и пр. Разумеется, эти две сферы не отделены одна от другой непроницаемыми переборками. Но неоспоримо все же, что несравненно более полновесно наследие, заключающееся в науках, которые имеют дело не с человеческим обществом, а с «материей», – в естественных науках в широком смысле слова и в том числе, разумеется, в химии.
Познание природы диктуется человеку потребностями подчинения себе природы, и здесь отступление от объективных соотношений, определяемых свойствами самой материи, карается опытом практики. Уже одно это дает серьезную гарантию естественно-историческим и, в частности, химическим исследованиям от вольных, невольных и полувольных искажений, натяжек и фальсификаций. Общественные же исследования направляли свои усилия прежде всего на то, чтобы оправдать общество, каким оно сложилось исторически, чтобы охранить его от покушения «разрушительных теорий» и пр. В этой апологетической роли официальных общественных наук буржуазного общества и заключается объяснение малой ценности их достижений.
До тех пор пока наука в целом была «служанкой богословия», она могла давать ценные результаты лишь контрабандой. Так было в Средние века. Естественные науки, как уже сказано, отвоевали себе, при буржуазном режиме, возможность широкого развития. Общественная же наука перешла на роль служанки капитала. Это относится в значительной степени и к психологии, которая связывает общественные науки с естественными, и к философии, которая приводит в систему обобщенные выводы всех наук.
Я сказал, что официальная общественная наука дала мало ценного. Лучше всего это обнаружилось и обнаруживается в неспособности буржуазной науки об обществе предвидеть завтрашний день. Это мы видели по отношению к империалистической войне и ее результатам. Это мы видели по отношению к Октябрьской революции. Это мы видим теперь на полной беспомощности официальной общественной науки оценить положение Европы, ее взаимоотношения с Америкой, с Советским Союзом и сделать какой-либо вывод относительно завтрашнего дня. А ведь в этом именно и состоит значение науки: знать, чтобы предвидеть.
Наиболее ценную часть наследства составляет бесспорно естествознание, а в естествознании одно из важнейших мест занимает химия. Ваш съезд стоит под знаком Менделеева, который был и остается гордостью русской науки.
Знание для предвидения и умения
Степень предвидения и точности в разных науках различна. Но через предвидение – в одних случаях пассивное, как в астрономии, в других случаях активное, как в химии, химической технологии, – наука проверяет себя и оправдывает свое общественное назначение. Отдельный ученый может совершенно не думать о практических результатах своих исследований. Чем шире, чем смелее, чем независимее от практической потребности дня работает его мысль, тем лучше. Но наука не есть функция отдельного ученого, а есть функция общества. Общественная же оценка науки, ее историческая оценка, дается способностью науки увеличивать мощь человека, вооружая его силою предвидения и овладения природой. Наука есть знание для умения. Когда Леверрье[90] на основании «неправильностей» в движении Урана заключил о существовании какого-то небесного тела, которое своим существованием «возмущает» движение Урана; когда Леверрье на основании своих чисто математических исчислений обратился к немецкому астроному Галле[91] с просьбой отыскать на небе по такому-то адресу беспаспортное тело; когда Галле направил на это место подзорную трубу и нашел там планету, названную Нептуном, – в этот момент небесная механика Ньютона[92] праздновала свою величайшую победу.
Это было осенью 1846 года. В 1848 году по Европе вихрем прошла революция, оказавшая свое «возмущающее» влияние на движение народов и государств. А между открытием Нептуна и революцией 1848 года два молодых ученых, Маркс и Энгельс, написали «Манифест Коммунистической Партии», в котором не только предсказали неизбежность революционных событий в ближайшем будущем, но дали заранее анализ их составных сил, логики их дальнейшего движения, – вплоть до неизбежной победы пролетариата и установления его диктатуры. Очень было бы недурно сопоставить с этим то, что пророчествовала в 1848 году официальная общественная наука Гогенцоллернов, Романовых, Луи-Филиппа[93] и пр. и пр.
В 1869 году Менделеев,[94] на основании изучения и размышления над атомным весом, устанавливает свою «Периодическую систему элементов». С атомным весом, как наиболее устойчивой характеристикой, Менделеев связывает ряд других свойств и черт, располагает элементы в определенном порядке и затем в этом порядке обнаруживает наличность известного беспорядка, именно отсутствие некоторых элементов. Эти ненайденные элементы или химические индивидуумы, как выражался иногда Менделеев, должны, по логике «Системы», занять в ней определенные пустующие квадраты. Менделеев здесь властной рукой уверенного в себе исследователя постучался в одну из закрытых до того дверей природы, и оттуда ответил ему голос: «Есть!». Даже три голоса сразу, ибо на указанных Менделеевым местах было обнаружено три новых элемента, которые получили затем названия гелия, скандия и германия.
Какое великолепное торжество исследующей и обобщающей мысли! В своих «Основах Химии» Менделеев дает образную характеристику научного творчества, сравнивая его с переброской железного моста через пропасть; для этого нет необходимости спускаться в ущелье и искать опоры на дне его, – достаточно взять упор на одном берегу и затем перебросить точно рассчитанную арку, которая уж найдет опору по ту сторону. Так и научная мысль. Она может опираться только на гранитные устои опыта; но обобщение ее, подобно арке моста, отделяется от мира фактов, чтобы затем, в другой точке, заранее рассчитанной, снова пересечься с ним. И тот момент научного творчества, когда обобщение превращается в предвидение, а предвидение победоносно проверяет себя через опыт, дает неизменно человеческой мысли самое гордое и самое справедливое удовлетворение! Так было в химии с обнаружением новых элементов на основании периодической системы.
Предсказание Менделеева, произведшее впоследствии огромное впечатление на Фридриха Энгельса, сделано было в 1871 году, т.-е. в тот год, когда во Франции разыгралась могучая трагедия Парижской Коммуны. Как относился к этому событию наш великий химик, можно судить по его общей враждебности к «латынщине», с ее насилиями и революциями. Как и вся официальная мысль правящих классов не только России, но и Европы и всего мира, Менделеев не ставил перед собою вопроса о внутренней обусловленности Парижской Коммуны, о том, что здесь новый класс, выросший из старого общества, своим движением оказал такое же «возмущающее» влияние на орбиту старого общества, как неизвестная планета – на орбиту Урана. А в это время немецкий изгнанник Маркс дал анализ причин и внутренней механики Парижской Коммуны, и лучи этого научного прожектора достигают событий нашего Октября и перебрасывают свой свет через него.
Для объяснения химических явлений давно уже не нужна более таинственная субстанция, которую называли флогистоном. В сущности, флогистон служил только обобщенным наименованием для химического неведения. В области физиологии мы давно уже не ощущаем потребности в особой мистической субстанции, которую называли жизненной силой и которая была флогистоном живой материи. В принципе нам ныне для объяснения всех физиологических явлений достаточно физики и химии. В области явлений сознания нам не нужна более субстанция души, которая в реакционной философии выполняет роль флогистона психических явлений. Психология сводится для нас в последнем счете к физиологии, как эта последняя – к химии, физике и механике. Живучее всего теория флогистона в области общественных наук. Здесь флогистон выступает в разных нарядах: то в виде особой «исторической миссии», то в виде неизменного «национального характера», то как бесплотная идея «прогресса», так называемая, «критическая мысль» и пр. и пр. Во всех этих случаях делается попытка найти какую-то сверх-общественную субстанцию для объяснения общественных явлений. Незачем повторять, что эти идеалистические субстанции являются только нарядными масками социологического невежества. Марксизм отказался от сверх-исторических сущностей, как физиология от жизненной силы или химия – от флогистона.











