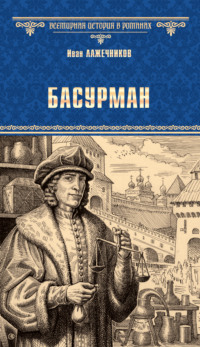Полная версия
Ледяной дом
– Умирать! – закричал Волынской, став на средину зала. И вся многочисленная дворня, бывшая в комнате, окружив своего владыку и преклонив голову, пала к нему в ноги, как морские волны, прибитые взмахом ветра к подножию колонны, стоящей посреди пристани. Несколько минут лежали слуги, будто мертвые, не смея пошевелиться; но вдруг, по одному мановению своего господина, встали, затянув ему громкую песню славы. Под лад ее подняли его на руки и осторожно покачали. Когда ж эта русско-феодальная потеха кончилась, Волынской нарядился в богатый кучерской кафтан и предложил своим гостям прокатиться.
Согласились тем охотнее, что замашки хозяина грозили уж опасностью. Каково ж было их изумление и страх, когда они, вместо своих экипажей, нашли у подъезда сани с людьми, им вовсе не знакомыми? Три бойкие тройки, прибранные под масть, храпели и рыли снег от нетерпения.
– Извините, друзья, – сказал Волынской, – ваши сани отосланы. Размещайтесь смелее; я вас покатаю и развезу по домам.
Незваные гости не знали, как вырваться из западни: надобно было согласиться и на это предложение хозяина, который в подобных случаях не любил шуток, и постараться во время катания ускользнуть от него подобру-поздорову. Когда ж почти все маски разместились, продолжая свое инкогнито, Артемий Петрович приказал кучерам на двух санях, при которых на облучках уселись еще по двое дюжих лакея, чтоб они умчали своих седоков на Волково поле и там их оставили.
– Слышите! на Волковом поле сбросить их! – произнес он грозно; потом, обратясь к гостям, прибавил: – Шутка за шутку! прощайте, господа! Теперь смейтесь на мой счет сколько вам угодно! катай!..
Несчастные жалобно возопили, но кучера гаркнули, свистнули, полозья засипели, бубенчики на лошадях залепетали, и в один миг сани, навьюченные жертвами шпионства, исчезли из виду.
– Теперь, – сказал Волынской, садясь кучером в третьи сани, где поместился рыцарь печального образа, довольно нагруженный вином, и обратясь к нему, – позвольте отвезть вашу светлость к Летнему дворцу. Вы уже довольно наказаны страхом и, прибавлю, стыдом, что попали в шайку подлых лазутчиков. Знайте, за час до вашего приезда меня известили о вашем посещении, и потому я приготовился вас встретить. Мои шпионы не хуже герцогских. Вы, думаю, поймете, что шутками насчет вашего брата хотел я только доставить вам и вашим товарищам пищу для доноса. Уверьте, однако ж, его светлость, что как я, так и друзья мои никогда не потерпим личного оскорбления, даже и от него. Мы спокойны: клевете и зависти не сделать белого черным. Преданность наша государыне всем известна; должного уважения нашего к герцогу мы никогда не нарушали. Но для всякой предосторожности, чтобы не перетолковали в худую сторону моих шуток, ныне ж донесу ему обо всем случившемся в моем доме и об оскорблениях, мне лично сделанных людьми, играющими роль его лазутчиков. Надеюсь, если вы не хотите, чтобы нынешняя история известна была государыне, и вы подтвердите мое донесение. Вот Летний дворец! извольте сойти, целы и невредимы; благодарите за то родству вашему с герцогом курляндским. Покойной ночи, Густав Бирон!
Не отвечая ничего, со стыдом вышел рыцарь из саней и скрылся у входа в жилище герцога. Остававшаяся при нем свита выпрыгнула за ним, как лягушки, распуганные на берегу, опрометью бросаются в свое болото. Не так хорошо кончили свое ночное поприще их приятели. По буквальному тексту данного приказа, они выброшены на Волковом поле, получившем свое знаменитое название от волков, приходивших туда каждую ночь доканчивать тех, которые при своей жизни не были пощажены жестокостью собратий, а по смерти их пренебрежением.
Маски в лунную ночь на кладбище – и еще каком, боже мой! – где трупы не зарывались: инка, Семирамида, капуцин, чертенок, это разнородное собрание, борющееся с мертвецами, которые, казалось им, сжимали их в своих холодных объятиях, хватали когтями, вырастали до неба и преследовали их стопами медвежьими; стая волков, с вытьем отскочившая при появлении нежданных гостей и ставшая в чутком отдалении, чтобы не потерять добычи, – таков был дивертисмент, приготовленный догадливою местью героям, храбрым только на доносы. К довершению их горя, надо было им пройти до своих квартир несколько верст пешком и на морозе.
Торжествующий Волынской, обещаясь быть вперед осторожнее (что он не раз уже обещал), отослал слуг домой и в кучерской одежде поехал шагом мимо Зимнего дворца.
Луна, полная и свежая, как дева, только что достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом небе округленные, роскошные формы свои: то едва закрывалась сквозной косынкой облачка, то шаловливый ветерок сдергивал ее. Ночь была так светла, что можно было читать. На улицах никого. Тишина и игра лунного света придавали этой ночи какую-то таинственность. По Луговой линии во всех домах огни были погашены; одетые к стороне дворца мраком, здания стали, как угрюмые, исполинские стражи его, и простерли вперед тень свою, будто огромные зазубренные щиты. Один дворец изукрашен был огнями, игравшими сквозь окна, как золотая фольга, и, затопленный светом луны, благоприятно обратившейся к нему лицом, блестел мириадою снежных бриллиантов. Воображая себя витязем наших сказок, катился Волынской по снежному полотну мимо этих волшебных палат, где жила его княжна. Словно духи, его преследовавшие, тени от коней его то равнялись со дворцом, то далеко убегали, ложась поперек Невы.
Раз проехал мнимый ямщик под самыми окнами Мариорицы и мимо маленького дворцового подъезда. Какая досада! никого не видно. В другой, объехав две-три улицы и возвращаясь опять к крыльцу, как бы очарованному для него, он заметил издали мелькнувшие из сеней головы. Ближе – нельзя сомневаться: это головы женские. На лестнице, сошедшей в улицу, захрустел снег под ножками; хрустнуло и сердце у Волынского. Сильною рукою замедляет он шаг коней.
Девушки смеялись, бросали свои башмачки, спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком, резвились между собою, пололи снег и, наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали спор.
– Спроси ты, – говорила одна.
– Нет, ты! нет, ты! – слышалась перестрелка тоненьких, нежных голосов, – голосов, заставляющих прыгать все струны вашего сердца, особенно когда раздаются в святочную ночь, в таинственной ее тиши, когда и живописец-месяц очерчивает для вас пригожие личики говорящих.
Наконец, одна осмелилась и спросила мнимого ямщика:
– Как тебя зовут, дружок?
Волынской содрогнулся и невольно остановил лошадей; в этом вопросе он узнал звуки Мариорицына голоса.
– Артемием, сударыня! – отвечал он, скинув шапку.
– Артемий? – повторила, задумавшись, молдаванская княжна, и кровь ее, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть из щек.
– Артемий? – закричали, смеясь, девушки. – Какое дурное имя!
– Неправда! оно мне нравится, – подхватила княжна.
– Кто бы это был ваш суженый? – продолжали ее подруги. – Все, кого мы знаем, не пара вам: или дурен, или женат.
«Я знаю моего суженого, моего неизбежного», – думала Мариорица и молчала, пылая от любви и чувства фатализма.
Девушки перешептывались, а лихой ямщик все еще стоял на одном месте; наконец, и он осмелился обратиться к ним с вопросом:
– Смею спросить: вас как зовут?
– Катериной! Дарьей! Надеждой! Марьей! – посыпались ответы.
– Неправда, неправда, – сказал гневно один голосок, – Мариорицей!
И этот голос был покрыт хохотом подруг ее.
Ямщик вздохнул, надел шапку набекрень и тронул шагом лошадей, затянув приятным голосом:
Вдоль по улице метелица метет;За метелицей и милый друг идет.«Ты постой, постой, красавица моя!Еще дай ты насмотреться на себя,На твою, радость, прекрасну красоту;Красота твоя с ума меня свела:Сокрушила добра молодца меня».Возвратившись домой, Артемий Петрович застал воспитанника Ролленева спокойно спящим на том же стуле, на котором хмель приютил его. Влюбленному пришла мысль воспользоваться для своих замыслов положением стихотворца.
«Пора к делу! – сказал он сам про себя. – Она так неопытна; давно ли из гарема? кровь ее горит еще жаром полудня: надо ковать железо, пока горячо! Светское приличие, которому скоро ее научат, рассудок, долг, одно слово, что я женат… и мои мечты все в прах! Напишу ей записку и перешлю с господином Телемахом: этот молчаливый посланный гораздо вернее. Она найдет ее… будет отвечать, если меня любит… а там тайное свидание, и Мариорица, милая, прелестная Мариорица – моя!»
И Волынской пишет, исполненный адских замыслов, вскруживших ему голову до того, что он не видит ужасной будущности, которую готовит вдруг и своей супруге и девушке, неопытной, как птичка, в первый раз вылетевшая из колыбельного гнезда своего на зов теплого, летнего дыхания.
Вот что он пишет:
«Не выдержу долее!.. Нет, не достанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариорица, видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукою любви? Почему не могу вырвать его из груди своей, чтобы бросить псам на съедение?.. Мысли мои помутились, горячка пробегает по жилам, уста мои запеклись: одно слово, только одно слово, росинку надежды – и я блажен, как ангелы на небесах! Видишь, я у твоих ног, обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, все, что для него только дорого на земле и в небе. О милая, бесценная Мариорица! Ужели жестокостью своей захочешь ввергнуть меня в бездну тартара? Ужели хочешь видеть труп мой под окнами твоими?.. Реши мою участь. Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе досылаю, и возврати мне ее на имя Тредьяковского завтра поутру, как можно ранее».
Волынской не затруднился сочинить это письмецо: любовь и опытность помогли ему. Не так легко было сочинителю пустить записку в ход. Узел в руках опьяневшего Тредьяковского развязан; но лишь только Артемий Петрович дотронулся до «Телемахиды», как творец ее, по какому-то сочувствию, замычал во сне. Дано ему забыться опять сном, и новый Язон опять принялся за похищение золотого руна. Мычание повторилось, но в то самое время, как Волынской, со всею осторожностью, вытягивал из узла громоздкое творение, араб вкладывал на место его так же осторожно полновесный фолиант. Послышав тягость в своих руках, Тредьяковский захрапел.
Подрезана бумага под переплетом «Телемахиды», и письмецо вложено в него так, что, коснувшись нежным пальчиком, сейчас можно было его ощупать. Затем велено арабу ехать во дворец, отдать книгу княжне Мариорице Лелемико от имени ее учителя, Василия Кирилловича, который, дескать, ночует у господина Волынского и приказал-де ей выучить к завтрашнему дню, для произнесения пред государыней, первые десять стихов из этой книги, и приказал-де еще переплет поберечь, книги никому не давать и возвратить ее рано поутру человеку, который за ней придет. Арабу наказано было отдать посылку как можно осторожнее, или в собственные руки княжны, или горничной, однако ж так, чтобы он слышал, что книга отдана княжне. С сердцем, полным страха и надежды, как водится в таких случаях, Волынской отправил своего черномазого Меркурия.
Глава VIII
ЗАПАДНЯ
Кого кто лучше проведет,
И кто хитрей кого обманет?
КрыловС сырыми от снега башмаками возвратились гоф-девицы домой из своего путешествия в волшебный мир гаданья. По каменным истертым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате Мариорицы.
– Наши русские барышни свычны со снегом, – сказала княжне ее горничная, уговаривая переменить обувь, – им ничего! а вы у нас прилетная птичка из теплых краев.
– И я хочу быть русской! – отвечала Мариорица; однако ж послушалась, чувствуя, что ноги ее были очень мокры.
Усадили княжну в огромные президентские кресла, которых древность и истертый бархат черного порыжелого цвета еще резче выказывали это юное, прелестное творение, разрумяненное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу ее форм. Это был розовый лист, павший на рясу чернеца, лебедь, покоящийся в темной осоке. Окруженная подругами, которые смотрели на нее, как бы желали себе: одна – ее мягких волос, свивавшихся черными лентами около шеи и до пояса, другая – ее румянца, третия – ее стана, плеч и бог знает чего еще; замечая в их глазах невольную дань ее превосходству и видя это превосходство в зеркале, осыпанная нежными заботами служанки, стоявшей на коленах у ног ее, Мариорица казалась какою-то восточною царицей, окруженною своими подданными. Горничная проворно скинула с нее обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей; согревши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала ее в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такой еще не видывала! вы видали ли?» – и, поцеловав, спешила обуть. Мариорице, раскинувшейся на бархате кресел, которые, казалось, бережно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает в иссохшие объятия милое дитя свое, – Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, видавших ее, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха?
И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орел, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучался у дверей. Служанка вышла и скоро возвратилась с огромною книжицей и поручением от господина Тредьяковского, переданным вполовину.
– Ох! уж этот мне Василий Кириллович! – сказала княжна, топнув слегка ногой и с досады надув губки. – Легко ли?.. выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хотина!.. Выучить наизусть! Мучитель! безбожник!
– Велено еще доложить вам, сударыня, – примолвила торопясь служанка, будто стараясь рассказать выученный урок, – что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егарей-мастера Артемия Петровича Волынского, просит вас переплет книжицы поберечь, ее самое никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет завтра поутру, как можно ранее, потому-де, что книжица эта ему очень нужна.
При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка, в голове сметливой и – нечего греха таить – влюбленной девушки. Угадчик-сердце шибко застучало, Мариорица призадумалась было, как математик над решением трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки, раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая его вслух. От первых стихов:
В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипса…и прочее, –гоф-девицы были в восторге.
– Как это хорошо! так и тянет за душу, – говорили они; но вдруг захохотали, смотря лукаво друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения:
Се вдруг узрела она корабля разбитого доски,Лавки гребецки почти на дщицы переломаны, веслаТакже туда и сюда по песку разметаны, купноЩеглу,[20] кормило одно и верви при бреге пловущи…– Не мешайте мне учиться, – сказала Мариорица, приняв гневный вид, и подруги ее, смеясь, высыпали из комнаты.
С робостью осмотрелась кругом Мариорица. В комнате, кроме ее, никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывать ее, шарить в ней…
Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты Груни, ее горничной, была умышленно проверчена щель? Могла ли подозревать, что этой горничной настрого приказано обер-гофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за ее поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок – и именно из дому Волынского?.. Боже упаси Груню утаить что-нибудь! Домашний лазутчик кабинет-министра уж дал знать герцогу, чрез кого следовало, о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудою. О! этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчет нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту.
Горничная искренно любила свою госпожу, и нельзя было не любить ее. Обворожительная своею красотой и детскою добротою сердца, Мариорица казалась существом, похищенным из двух раев – магометова и христианского. Груне гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать все свое мастерство и усердие, нежели шпионить против нее, но выступить из повеления Липмана, обер-гофкомиссара, любимца Биронова и крестника государынина, можно было только положа голову в петлю.
Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный герцогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был, по одному только намеку его, оклеветать, пытать, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому Груня покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца.
Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника; кровь пошла скоро, скоро, будто колеса в часах, когда порвалась цепочка: Мариорица ощупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви; наконец, поцеловать раз, еще раз, нежно, страстно роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца, – вот что делала Мариорица и что делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви (пожалуй, если угодно, от жениха)!
Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копьями своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда! неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!»
Виноват, виноват: я пошутил; и если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме.
«И он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их! О, какой же он нежный, страстный!..» – говорила про себя Мариорица и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать.
Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку.
И милая восемнадцатилетняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, еще раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать: «Да, я таки недурна!..» – вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, еще раз поцеловала записку, обещаясь завтра поутру отвечать на нее, – а то, пожалуй, немудрено и убиться бедненькому! – положила ее под изголовье и, наконец, заснула, сладко-мучительно заснула.
Груня видела все. Стало ей жаль барышни, и она решилась было не исполнить приказ Липмана; но мысль о заводах, куда сошлют ее и где отдадут за какого-нибудь горбатого, кривого кузнеца, придала ей жестокой твердости. Она сотворила крестное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевесть дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха, что Мариорица того и гляди может проснуться.
Как беззаботно раскидалось прелестное дитя! Щеки ее горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот рука горничной под подушкой… Мариорица вздохнула… и Груне показалось, что рука у ней отнялась… «Открой она теперь глаза, – думала невольная сообщница шпионства, – меня, как громом, пришибет». Но рука уж под изголовьем… мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение… записка схвачена… рука на свободе.
Груня залилась горючими слезами; плакать, однако ж, было некогда: она обтерла слезы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут чрез камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей: отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась, и чтобы он вручил ее герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи, в тогдашнее время, пажи были наметаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извилинах дворцовых коридоров, слабо освещенных.
Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев в замочную скважину, что он приближается, в одно мгновение ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелек и, оделя их по горсти мелкого серебра, примолвил:
– Заправна, плутишка! люблю молодца! вот вам на сладка!
Пажи поцеловали у него руку; один же из них, делая это, всунул в нее потихоньку известную записку.
– Твоя, помолодше, проводит моя! – сказал Бирон, махнув ему рукой.
В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове:
– От кого?
– Из отделения молдаванской княжны, – отвечал быстро паж, – записка принесена из дома Волынского, в книге русского учителя; горничная ждет назад.
Бирон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочел записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце… любимицу государыни?.. Этого довольно, чтобы сгубить соперника!.. Но Бирон ли раскроет и пресечет эту связь в самом начале?.. Нет, он не так прост. Ему нужно продлить ее, усилить даже собственною помощью, запутать молодца и… тогда? Что будет тогда, увидим». Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков ее списать роковое послание. Когда ж это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю тем же исковерканным языком, которого дали мы образчик, но который не станем более употреблять, избегая затруднения в разговорах:
– Какой прекрасный почерк! Золотая ручка! да где ты этому мастерству учился?
– У камер-лакея Исполатова, – отвечал торжествующий паж с самодовольным видом.
– Виват, Исполатов! Только, вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах (при этом слове паж, видимо, опечалился: он думал, что исполнил свое дело, как искуснейший министр). Впрочем, это безделица; я говорю для переду. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письмеца; а как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои. (Разумеется, пажик поцеловал опять у Бирона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротою стенографа.) Вперед я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький! негодные вещи, которых не любит государыня! Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учись этому, когда вырастешь.
(Не учись!.. Лукавец!.. А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать.)
Когда этот урок кончился, Бирон отправил пажа к горничной с строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось: наградой можно б избаловать служанку – на нее должен был действовать один страх и гроза.
Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым, сквозным ветром. Взяв от пажа роковое послание, она с этой тяжелой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкою положила записку под подушку.
«Бедная! как сладко спишь ты! – подумала служанка. – Может статься, видишь своего полюбовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, окаянная, попала к тебе на этот раз! Что ж? кабы не я, сделала бы это другая».
И с этими мыслями пошла Груня спать на свое жесткое ложе, молилась, плакала, но не могла заснуть до зари. Поутру рано, пока барышня ее спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали. Ведь наказано было как можно ранее возвратить ее. А то, неравно, бедная княжна вздумает отвечать на письмецо; ответ перехватят, и опять новое горе, новые заботы!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Дворецкий. (Примеч. автора.)
2
Приемные дни во дворце (нем.).
3
Красноречия (лат.).
4
В Торжке есть поговорка:
Ты расти, расти, коса,
до шелкова пояса;
вырастешь, коса,
будешь городу краса.
Примеч. автора.)
5
Счаливан. (Примеч. автора.) – От старинного выражения «быть счалену», то есть сдружиться.