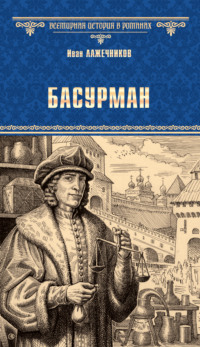Полная версия
Ледяной дом
– А! дорогой гость, добро пожаловать! – сказал Волынской, кивнув ему и взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как бы несли камень задавить его.
Гость отвесил глубокий поклон у двери так, что туловище его с нижнею частию фигуры составляло острый угол, – два шага вперед, другой поклон, еще ниже третий. Лицо его утучнялось радостью; желая говорить, он задыхался, вероятно от того ж чувства; наконец, собравшись с силами, произнес высокоторжественным тоном:
– Великий муж! как дань моего глубочайшего высокопочитания пришел я положить к подножию вашему энтузиасмус моего счастия.
– Поведай, поведай, что такое, – сказал с усмешкою хозяин, – но с уговором, чтобы ты сидел. Я буду мечтать, что беседую с Омиром, повествующим мне о прекрасной Елене.
– Помилуйте, я и постою пред лицом вашим.
– Да, боже мой, садись, я тебе приказываю.
Тредьяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой.
– Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком и я обретаюсь состоянии. Но дух, как Ираклий, чего не возможет! Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа и… и помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возмните, какое бы благополучие меня ныне постигло.
– Что ж, ты видел государыню?
– Насладился ее божественным лицезрением, но этого не довольно.
– Она говорила с тобою?
– Еще выше и гораздо выше.
– Да не томи же нас!
– Итак, познайте, ваше превосходительство, я призван был в царские чертоги для чтения моего творения… Весь знаменитый двор стекся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти достодолжное благоговение пред богоподобною Анною… рассудил за благо стать на колена… и в такой позитуре прочел почти целую песню… Хвалы оглушали меня… Сама государыня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилостивейшею оплеухою.
Тут Волынской едва не лопнул со смеха; Зуда закусил себе губы.
– Не помыслите, великий господин, чтобы сия оплеуха была тяжка, каковые дают простые смертные своими руками; нет! она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала преутаенные душевные пружины в подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя. Она едва-едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства облепил все мое естество. Не памятую, что со мною тогда совершалось, памятую только, что сия оплеуха была нечто между трепанием руки и теплым дуновением шестикрылого серафима. Проникнутое, пронзенное благодарностью сердце бьет кастальским ключом, чтобы воспеть толикое благоденствие, ниспосланное на меня вознесенною превыше всех смертных.
– Поздравляем тебя от чистого сердца, – сказал Волынской. Не зная, как освободиться от энтузиасмуса своего гостя, и между тем боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции, что у него за книга под мышкою.
– А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Ее велено… (вы понимаете, кто велел)… показать вам… Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке.
– Много чести; зачем беспокоиться!
– Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия.
Кабинет-министр внутренно досадовал; но, желая разобрать смысл намека на знаменитую книжицу, потребовал ее к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однако ж, уговором, чтобы он обрадовал его секретною весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственно на сердце, мигнул глупо-лукаво на Зуду, как бы считая его помехою, и поспешил обратиться к своему любезному предмету.
– Вот, извольте видеть, высокомощный господин, эта книжица есть…
Тут Василий Кириллович начал говорить и говорил столько о Гомере, Виргилии, Камоэнсе, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнул из кабинета; в слух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов – так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы «Телемахиды», он нашел закладочку… На ней, в нескольких словах, заключалось для Волынского все высокое, все изящное, о чем оратор напрасно целые полчаса проповедовал; на ней было начертано: Мариорица; твоя Мариорица – скучно Мариорице! Слова эти горели в глазах влюбленного Волынского; он видел уж впереди, и очень близко, шифры, переплетенные огнем, пылающие алтари, потаенные беседки, всю фантасмагорию влюбленных. Чего не изъяснил он, не перевел, не дополнил в этих словах! Любовь скорее всякого профессора научит анализу того, что говорит любовь.
«О Мариорица! милая Мариорица! – думал он, – мы и заочно чувствуем одно; нам уже скучно друг без друга. Ты теперь между шутами, принуждена сносить плоскости этих двуногих животных; предо мною такой же шут, которого терплю потому только, что он бывает у тебя, что он с тобою часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя, вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души».
В то самое время, когда Волынской, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом с своею страстью, портрет его жены, во всем цвете красоты и счастия, с улыбкою на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нем; но надолго ли?.. Взоры его обратились опять на магические слова: твоя Мариорица, и весь мир, кроме нее, был забыт.
И вот кабинет-министр, в восторге своего счастия, взглянул на небо, как бы прося исполнить скорей преступные его желания.
– О победа! о венец труда великого! – воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторженное движение Волынского относилось к одному месту из его поэмы. – Какое же место привело вас в такой энтузиасмус? соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтобы он мог сам поласкать его.
Волынской смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры наугад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочел:
Видят они[19] весь шар земли, как блатную грудку;Все ж преобширны моря им кажутся водными капли,Коими грязная кочечка-та по местам окроплена.Это место превосходно! исполнено силы, великолепия! Я ничего подобного не знаю.– Го, го, го, есть места еще лучше. Если дозволите прочесть вашему признательному пииту!.. Например, когда Калипса, воспаленная паренком любви и ревностью, дает окрик на Телемаха и дядьку его.
Здесь Василий Кириллович встал и, сам воспалясь гневом, замахав руками, вскричал так, что по сердцу собеседника его пробежала дрожь:
Прочь от меня, прочь далей, прочь, вертопрашный детина;С ним же ты совокупно прочь, старичишка безмозглый:Ты почувствуешь, мощен колико гнев есть богинин,Ежели не отвлечешь его ты вскоре отсюду.Больше видеть его не хочу; и к тому не терплю я,Чтоб которая из нимф слово спустилаИль на него чтоб и невозбранно коя смотрела.Чувствуете ли, ваше превосходительство, какую красоту причиняет слово прочь, четырежды повторенное. Это по-нашему называется: фигура усугубления.
«Дух-мучитель!» – подумал Волынской, истерзанный самолюбием сочинителя, и сказал вслух:
– Хорошего понемногу, Василий Кириллович! Дайте мне отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж!
– Ага, ваше превосходительство, вы истинный меценат, вы постигли меня, вы отдаете мне справедливость. Но я поведаю вам анекдотец, как могут ошибаться и великие люди. Теперь, не краснея, смею предъявить его во услышание мира, ибо я на предмет своей знаменитости успокоен. Пускай букашки, цепляясь за былинки, топорщатся на Парнасус; пусть рыбачишка холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на сопелке свою одишку на взятие Хотина, которую несмысленые ценители выхваляют до небес: моя труба зычит во все концы мира и заглушит ее; песенка потонет в 22 205 стихах моей пиимы! 22 205 вернейшим счетом!.. Нелегко сказать; возьмись-ка кто написать!.. Сколько ни обгложут из них мои зоилы, сиречь завистники, все останется мне их довольно для существования в потомстве.
– Скорей к повествованию, Василий Кириллович, и потом жаждущему хоть каплю воды: одно слово о княжне. Когда ты скажешь мне его, я велю принесть подарочек…
Глаза будущего профессора элоквенции заблистали огнем. Он рассыпался в благодарности, окрилился и повествовал:
– Итак, я поведаю вашему превосходительству вкратце анекдотец о себе и Петре Великом. Извольте ведать, что я обучался элементам наук и древних языков в архангельской школе. Уже в летах младых я обещал в себе изобильные надежды. Единожды, когда соблаговолил посетить наш вертоград блаженные и вечно достойные памяти государь Петр Первый, профессор подвел меня к его императорскому величеству, яко вельми прилежного и даровитого студента по всем ветвиям наук, особенно в риторике и пиитике. Еле четырнадцатилетний паренище, я выучил наизусть главу об изобретении со всеми цитатами и эпиграфами, как помилуй мя боже, и сочинил стихословный акростих: «Како подобает чествовати богов земных?» Сей акростих был поднесен его императорскому величеству, и он, воззрев на него, соблаговолил изречь: «Лучше б написал он мне о рыбной ловле здешнего края!» Ге, ге, ге, о рыбной ловле: заметьте, ваше превосходительство! Осмелюсь присовокупить, впрочем не утруждая вашего драгоценного внимания: Петр Алексеевич хотя и был государь премудрый, но в риторических извитиях не обращался, греческого и латинского языков не любил. Сожалительно весьма; чего бы он с познанием их не сотворил! Но обращаюсь к сущему повествованию. Потом всемилостивейший государь, блаженные и вечно достойные памяти, соблаговолил подойти ко мне, выведенному из ряду прочих школьников, поднял державною дланью волосы на голове моей и, взглянув пристально мне в очи, а скиптроносною ударив по челу моему, произнес: «О! этот малой труженик: он мастером никогда не будет». И я дерзаю днесь изрещи: Петр был государь великий; но во мне-то и ошибся! Приникни ныне, о тень божественная, на мою «Телемахиду», на Ролленя дважды в двадцати четырех томах, и сознайся пред ними в своей опрометчивости.
Волынской очень смеялся этому анекдоту; но чтобы разделаться с своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилостивейшей оплеухе, велел арабу принести обещанную пару. Между тем решительно приступил к Тредьяковскому, чтоб он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне.
Василий Кириллович рассказал за тайну, что ее сиятельство была очень скучна, узнав, что его превосходительство сделался нездоров, что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору и нет ли какой в городе, ей неизвестной; когда ж Василий Кириллович, как новый Парис, вручил ей золотое яблоко, она казалась очень довольною. Далее спрашивала об играх и затеях святочных, собиралась ныне же, когда месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженом; наконец, во время урока, принялась чертить свое имя и еще кое-что… Но, несмотря на старания учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать ее, боясь, что она попадет в руки Артемия Петровича. (Мы видели, однако ж, что эта самая записка очутилась в «Телемахиде», между листами, вместо закладки и дошла к кому следовала: так-то хитра любовь женщины! Верьте, что она, когда нужно, проведет не только профессора красноречия, но и поседелого в дипломации мужа.)
Утешенный Волынской, с новым запасом для своих волшебных замков, выпроводил от себя Тредьяковского, а этот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья, ему подаренную, и свою «Телемахиду», отправился с этим сокровищем домой. Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет-министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. Велено пригласить.
Глава VII
ПЕРЕРЯЖЕННЫЕ
Послушай, говорит, коль ты умней
не будешь,
То дерзость не всегда легко тебе
пройдет.
На сей раз бог простит: но берегись
вперед
И знай, с кем шутишь!
КрыловРаз в крещенский вечерок
Девушки гадали;
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.
ЖуковскийЕще на лестнице послышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. И какая беда с профессором элоквенции! Ему навстречу ватага переряженных. Его оглушили, засвистали, защекотали: от парика его пошла пудра столбом. В этой суматохе он думал не о себе; нет, великий муж мыслил, подобно Камоэнсу, гибнущему в море, о спасении «Телемахиды» и праздничной пары. Жалея о своем детище, которое могло бы пострадать от приступа маскерадных героев, он повернул медвежьи стопы назад: его затерли и увлекли. Как огромный гремучий змей, втянулись они в зал, составили польский, сгибаясь в кольцы и разгибаясь в бесчисленных изворотах, но не выпуская из своего круга бедного, измученного кропателя стихов. Тут были инка, гранд и донна, испанцы только по женским мантильям, на них накинутым, и по перьям на шапочках с бриллиантовыми аграфами. Шлейф донны несли два карла. Сбитенщик с огромным подушечным брюхом давал руку турку, трубочист с знатным ариергардом на спине – великолепной Семирамиде в фижмах, чертенок – капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надетая на ручку половой щетки, нос из расщепленной надвое лучины, а ноги – просто человеческие, в сапогах. Рядом ревел и медведь: эту роль играл человек в медвежьей шубе, вверх шерстью. Одним словом, тут был полный доморощенный маскерад, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны; зато они веселились не равнодушно, не жеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды; он один хранил угрюмое молчание. Заметно было по жилистым, полновесным ручкам донны и Семирамиды, что они способны управлять не иглой, а палашом.
Одна из масок остановилась в сенях; ей навстречу – барская барыня.
– Что нового? – спросила первая.
– Цыганка после смотра долго оставалась наедине с барином, – отвечала вторая на ухо переряженному, – допытайте ее хорошенько… За мной строго присматривают…
Разговаривавшие послышали шум шагов внизу лестницы и бросились каждый в свою сторону.
Прервавший их тайную беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и в долгополой мантии с иероглифами и зодиаками, с длинною тростью в одной руке и урной в другой.
Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, плясали уморительно по-стариковски, приводя в движение подушки, которыми обвязались; закидывали хозяина вопросами на разные чудные голоса, пускали шутихи остроумия и по временам намекали ему о некоторых тайнах его, известных только его друзьям. Это мучило Артемия Петровича; он не выдержал и приказал маршалку выведать от кучеров, стоявших у подъезда, кто были переодетые. Кучера сначала отговаривались, но гривна на водку все открыла: они рассказали, что главные маски были гоф-интендант Перокин и тайный советник Щурхов, друзья Волынского, с своими близкими. Узнали еще, что этот маскерад возвращался уже из дворца, где увеселял больную государыню. В самом деле, Артемий Петрович, сличая рост и ухватки своих друзей, уверился, что это точно они, да и карлы были те самые, которых он видал у Перокина и Щурхова. Вельможи эти были не молодых лет, но в тогдашнее, нещекотливое на приличие время старость и знать под веселый час любили подобные затеи в кругу приятельском или по заказу государыни.
Турок потребовал питья у сбитенщика, и этот налил ему из своей баклаги густого токая.
– В чужой монастырь с своим уставом не ходят, – вскричал Артемий Петрович, – стакан вдребезги, – и дан приказ расшевелить все углы домашнего погреба, заветного хранилища богатых заморских вин.
Пир поднялся горой; стопы и чары, постукивая, начали ходить кругом; разлилось море вина, хоть купайся в нем. Инка, турок, Семирамида пили по-русски. Капуцин, осушая стопу, ссылался, что соблазнил его нечистый, а бес приговаривал, что, попав в общество капуцина, поневоле научишься пить. Гости продолжали говорить не своими голосами, изредка обстреливая Бирона и его приверженцев; хозяин, увлекаясь живостью своего характера, не выдерживал и осыпал герцога посылками с убийственной начинкой. Только долговязый рыцарь молчал, как немой, но пил за двоих. Надо оговориться, что Артемий Петрович, дав слово гостям не нарушать их маскерадной тайны, свято исполнил его; гостям же бумажные забрала позволяли, осушая стопы, сохранить свое инкогнито. Между тем Зуда с ужимочками, с улыбочками и приветствиями подходил то к одной, то к другой маске и каждого ощупывал по роду его ответов.
– Ах! – возопил инка, – из столицы солнца, где жгли меня и лучи его и жаровни испанцев, я прибежал прохладиться в Россию.
– Ошиблись, ваше индейское величество! – подхватил Волынской. – Здесь научили жарить на морозе без огня и угольев.
Индеец посмотрел на беса, бес на индейца; а хозяина в это время дернул за полу кафтана волшебник.
– Кой черт его дергает! – вскричал Волынской. – Да, братец, господин волшебник, эта наука не доморощенная, привезена к нам из-за моря нерусским Вельзевулом.
– Нерусским! да из какой же земли? – спросил грозно турок.
– Пасую ответом! – закричал чертенок.
– Из земли выходцев, где главные достоинства – счастие и отвага, – прервал Волынской, – жаль только, что он не наш выходец, и навеки!
– Хват! перещеголял и меня! – восклицал бес, хлопая в ладоши.
– Скажи мне, пожалуйста, братец, – спросил шепотом сбитенщик Артемия Петровича, отведя его в угол залы, – кто это волшебник?
– Да ведь он с вами приехал?
– Нет, он увязался за нами на лестнице! не шпион ли герцога?
– А вот я скоро с ним разделаюсь, сдерну с него фальшивую рожу.
– Постой, два слова…
– Боже! он погубит себя, – шепотом говорил Зуде волшебник, отведя его в сторону, – он, верно, принимает его за друга… Сердце замирает от мысли, что он проговорится… Он с бешенством на меня посмотрел, грозился на меня, показывал, что сдернет с меня маску… Я погиб тогда. Отведи его, ради бога!
– А меня ты узнал скоро? – спросил сбитенщик хозяина.
– Разом.
– Кто ж я?
– Перокин.
– Плутище!
– В другой раз прячь получше свои толстые жабры, пышные губки и бородавку на ухе, а карлом своим не хвастайся.
– Есть ли новости, брат?
– О, важные! Малороссиянин.
– Ну что? тише…
– И мертв и жив.
– Что за притча! Каким же образом?
– До вас я только что получил…
– Сюда, Артемий Петрович! время не терпит, – вскричал странным голосом Зуда, увлекая за собою упиравшегося волшебника, – плутоват, как Махиавель!
– Махиавель? – повторил Волынской. – Я разом к тебе буду, – прибавил он, обратясь к сбитенщику, и бросился в ту сторону, где Зуда возился с астрологом. Этот от Волынского, далее и далее, и в противный угол залы, где никого не было.
– Вы губите себя, – сказал он Артемию Петровичу, схватя его за руку и легонько пожав ее.
Зуда присовокупил шепотом:
– Слушайте его, а не то беда! – Потом сказал вслух: – Колдун вовсе не пьет.
– Избавьте меня! – умолял жалобным голосом астролог, – зато я предскажу вам будущность вашу. Выньте из урны ваш жребий.
– Посмотрим, посмотрим!
Хозяин опустил в волшебный сосуд руку; между тем чародей протяжно запел непонятные слова, как муэдзин взывает на минарете к молитве.
– Эй, люди, сюда! – закричал Волынской, – держите его! беда колдуну, если он напророчит мне худое: утоплю его в вине.
Человека три ухватились за волшебника; из них и Зуды составилась порядочная группа, почти закрывавшая главные лица этой сцены. Молчаливый рыцарь встал с своего места и, не слыша, что они говорили между собою, впился в их душу глазами, сверкающими из-под маски, которую в это время коробило.
Волынской вынул из урны свернутую бумажку и прочел: «Берегитесь! все ваши гости лазутчики Бирона, выучившие роль ваших друзей и приехавшие к вам под именами их. Они хотят втереться к вам в кабинет. Не оскорбляйте рыцаря: это брат герцога».
Рука записки была та же, которою писали длинное таинственное послание.
– Хитрая штука! – вскричал хозяин, стараясь не казаться озабоченным. – Предсказывать, что мне не будет более успеха в волокитстве!.. Качать его за то!.. Эй, качать колдуна! Осторожнее! – прибавил он потихоньку одному из своих слуг, взявшихся за волшебника.
И двадцать молодцов, исполняя свято приказ своего господина, под лад песни бросали гостя вверх, как мячик, и принимали его бережно на руки, будто на пуховики. Между тем Артемий Петрович шепнул под шумок одному из своих слуг, чтобы стерегли вход в кабинет, отослали домой сани приехавших гостей и запрягли три удалых тройки с собственной его конюшни; потом, возвратясь к мнимому Перокину, продолжал начатый с ним разговор.
– Вот видишь, любезный друг, – сказал он, – я только что пред вами получил прошение на имя государыни за подписью какого-то Горденки и еще нескольких важных лиц. В нем описываются злодеяния Бирона. Но – слышишь? просят вина! Не взыщи. Завтра в восемь часов утра приезжай ко мне с нашими задушевными – я вам расскажу все подробно.
– Зачем откладывать?.. завтра… что-нибудь помешает…
– Нас могут услышать.
– Войдем в кабинет…
– Не могу, право слово!.. Эй! маршалок! бокал сюда! – закричал грозно Волынской, пристав к шумящим гостям, и запел:
Чарочка моя,Серебряная,Кому чару пить,Кому выпивать…Да какая же чара! – прибавил он, наливая бокал, – не только с хмельком, да и с зельицем…
Выпивать ееАртемию Петровичу, –запели два-три голоса с коварною усмешкой.
– А я так думаю – всем гостям моим, – возразил с такою же усмешкой хозяин.
И чара обошла всех гостей, кроме волшебника, успевшего скрыться.
– Эй! скорей еще вина!
Чертенок, воспользовавшись обращением Волынского к своему дворецкому, погрозил вслед ему пальцем я промолвил:
– Поболе таких вин, как твои, господин хозяин, и ты не увернешься от наших когтей.
На эту шуточную угрозу, Волынским услышанную, он отвечал:
– У нас, по милости хозяина, во всякое время найдется довольно вин, чтобы виноватым быть. Беда, беда сбитенщику! За ним, я вижу, опять недоимка. Зуда, не отходи от него, пока не очистит, а то в доимочный приказ, и на мороз босыми ногами.
– Что скажете вы на все это, господин рыцарь? – спросил чертенок молчаливого крестоносца. Рыцарь молча ударил по эфесу меча своего.
– Ошиблись, господин! вы вместо секиры привесили благородный меч, – сказал Волынской горячась.
– Не миновать тебе и ее! – был ответ рыцаря, как будто вышедший из могилы.
Хозяин вспыхнул, но старался скрыть свое негодование.
– Что-то помалчивает наша Семирамида? – лукаво спросил инка.
– Она горюет, – продолжал Волынской, – что ошиблась в выборе своего рыцаря. Но добрая Семирамида узнает когда-нибудь свою ошибку – к черту угрюмого конюшего (при этих словах рыцарь нахохлился), и блаженство польется в ее стране, как льется теперь у нас вино. Друзья, за здравие Семирамиды!
– За здравие Семирамиды! – воскликнули гости, и стопы зазвучали.
– Виват! – возгласил турок.
– Ура! родное ура! – закричал хозяин.
– Виватом у нас в Петербурге встречает войско свою государыню.
– Войску велят немцы-командиры, а нам кто указывает! Ура! многие лета царице! веки бесконечные ее памяти!
– Слышишь? – сказал чертенок шепотом, толкнув монаха, – память ей вечная!
– Да, да, я слышал, – отвечал капуцин, – слышал, верно, и благородный рыцарь. Мы все свидетели; от этого он не отопрется.
Волынской подошел к своим слугам и приказал, чтобы качали попеременно всех его гостей.
– Бойчее! – прибавил он мимоходом, – разомните им кости!
Этот приказ развязал руки качальщиков. Надо было видеть, как летали турок, чертенок, капуцин и прочие маски.
– Злодеи! разбойники! тише, родные, пощадите! – кричали они, посылаемые сильными руками к потолку.
При этом действии славили гостей под именами Перокина, Щурхова и других, за кого приказано было людям принять их. Едва унеся свое тело и душу из этой потехи, они еще принуждены были щедро наградить за славление: так водилось у наших предков. Перокин более всего держался за свои уши, но бородавка на одном из них не уцелела. Волынской притворился, будто этого не заметил. Грозный рыцарь, по просьбе его товарищей, Семирамида, из уважения к ее высокому сану и полу, и Тредьяковский, который уже храпел на стуле в углу комнаты, обняв крепко свою «Телемахиду», одни избавились от торжественного возношения под потолок.