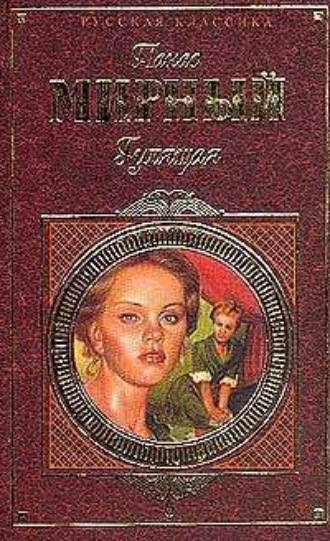 полная версия
полная версияГулящая
Христя молча сидела у стола. Ей казалось, что вот-вот распахнется дверь и войдет страшный, обезумевший Довбня.
Дверь действительно раскрылась, и вошел высоченного роста солдат. Голова его чуть не касалась потолка, руки – как крючья, лицо – продолговатое, рябое.
– Марина Трофимовна! Наше вам! – сказал солдат, протягивая Марине руку. Та, приветливо улыбнувшись, подала ему свою, и солдат так ее сжал, что Марина подскочила от боли и ударила его изо всей силы по плечу. Солдат громко засмеялся.
– Чтоб тебя черти так жали! – ругала его Марина.
– Ничего-с. Это здорово! – сказал солдат, садясь на другом конце стола против Христи.
Она пугливо посмотрела на гостя и подумала: «Тут, видно, босяцкий притон».
– А это что у тебя за барышня? – спросил солдат.
– Это моя подруга, а не барышня.
– Понимаем-с. Наше вам, – сказал он, протягивая Христе руку.
Та боязливо подала свою.
– Бойтесь! Вот это ручка. Беленькая, пухленькая, – любовался он, слегка поглаживая руку Христи шершавой ладонью
– А позвольте спросить. Вы где ж находитесь? Здесь или проездом?
– Проездом, – ответила Христя.
– При должности какой состоите или гулящая?
Христя остолбенела от этих слов; она вся скорчилась от неожиданности.
– Ну, и понес! – крикнула Марина. – Тебе какое дело? Молчи!
– Не извольте гневаться, Мария Трофимовна. Я, значит, все доподлинно желаю знать.
– Скоро состаришься, если все знать будешь.
– А вот у нас в роте фельдфебель всегда говорит: «Все знать – самый раз!»
– Так это у вас. А у людей не так.
– У солдат всегда лучше, чем где-либо. Ничаго своего, одна душа, да и ту кому отдашь на сохранение.
Марина глубоко вздохнула.
– Ты ж кому свою препоручил – Богу или черту? – спросила она, смеясь.
– Зачем Богу? Богу еще успеем, а черт к нашему брату не пристает. Вот к молодушке какой – самый раз!
– У вас все молодушки на уме, кто ж нас, старых, приголубит? – спросила Марина.
– Старым бабам помирать надо, а молодушкам – песни петь да солдат любить.
– За что?
– Как за что? За то, что солдат – сиротинушка. Один на чужой стороне.
– Красиво поешь. Ангельский голосок, а душа чертова.
– Опять чертова. Эх, едят нас мухи! Разве с бабами можно говорить об этих материях? У бабы волос долог, да ум короток. Вот что я тебе скажу.
– Это почему же?
– А так. Вот пример, пришла к тебе гостья, подруга твоя. Нет того, чтобы, примерно, в шиночек за водочкой сбегать… гуся жареного или барашка из печи вынуть… Все на столе – пей и ешь, любезная подруга! А ты вот соловья баснями кормишь.
– Да что поделаешь, коли нечем, – грустно сказала Марина.
– А нет – так и скажи. Тогда с тебя и не спросят. Вот у меня в кармане осталась завалящая копейка. На! Тащи! – сказал солдат, вынул двугривенный и брякнул им о стол.
– Нет, нет, – вскрикнула Христя. – Бога ради, не надо! Я ничего не хочу. Спасибо вам. Я только пришла проведать подругу.
– Ну, может, кто другой хочет, – сказал солдат, сунув монету Марине.
Та покорно взяла деньги, накинула платок на голову и ушла. Христе стало не по себе.
– Хорошая баба Марина, – сказал солдат. – Вот только муж у нее лихой. У, лихой!
– А был такой смирный.
– Да, смирный-то он смирный. Только больно много зашибает. Небу жарко! Ну, а тогда уж не знает, что делает. На меня однажды с ножом бросился. Не увернись я – так бы насквозь и проколол.
– За что же он так рассердился на вас?
– Как тебе сказать? Ни за что. Первое – он всегда пьяный. Как его любить жене? А второе – я их квартирант. Ну, вот он и начал ревновать ее ко мне.
В это время вернулась Марина с бутылкой водки и буханкой хлеба в руках.
– Все про того ирода говорите? – сказала Марина, выкладывая свои покупки на стол. – Осточертел он мне, лучше не вспоминайте.
– Ладно, не будем. Потчуй-ка гостью, – сказал солдат.
– Я не пью. Спасибо вам, – поблагодарила Христя, когда Марина поднесла ей чарку.
– Ну, как хочешь, – сказала та и быстро осушила чарку. – А горилка хороша. Выпили б.
– Да что же, раз не пьют? – сказал солдат. – Ну, и не надо. Я за нее выпью.
Он выпил, крякнул и налил другую.
Христя еще посидела немного, с грустью глядя, как постепенно хмелели Марина и солдат, потом решительно поднялась, попрощалась и ушла.
– Нос задираешь, – сказала Марина. – Ну, и убирайся к черту!
– А бабенка ядреная! – сказал солдат.
– Думаешь, порядочная? Такая же шлюха, как и все.
– Значит, наш брат Савва! Эх, едят ее мухи!
И солдат хлопнул Марину по спине. Та, изгибаясь, стукнула его кулаком между лопаток.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В тот же вечер Христя и Колесник уехали в губернский город. Всю дорогу он был грустным и неразговорчивым. Христя думала о Довбне, Марине и тоже сидела молча.
Приехали к вечеру следующего дня; Колесник сразу ушел на свою половину и заперся. У Христи заныло сердце от тревожного предчувствия. Она долго не спала, думая о Колеснике. Верно, немало пришлось ему выслушать нареканий от жены. Недаром у него такое тяжелое настроение. Христе казалось, что Колесник должен позвать ее, она и сама порывалась идти к нему, – может быть, он расскажет ей о своих бедствиях, и ему легче станет. Но каждый раз ее останавливало опасение: а если он утомился с дороги и спит?… Пусть уж завтра. Так она и уснула. А Колесник…
Поставив свечу на ночном столике у изголовья, он лег на спину, грустно оглядывая комнату. По темным обоям стен сновали тени, тускло отсвечивал белый потолок. В желтоватом сумраке навязчивые мысли Колесника воплощались в какие-то неясные видения. Из темных углов они глядели на него с пугающей таинственностью. Вот его отец – высокий круглолицый мясник, которому низко кланяются все городские мещане. А там – мать, бойкая торговка, болтливая, говорит, точно горохом сыплет, и все притчами да поговорками, которых у нее было целый ворох на все случае жизни. Что ни скажет Петро Колесник, никто лучше его не придумает, а послушать толстую Василину останавливались не раз и паны на базаре, удивляясь, откуда у нее такие слова берутся. Все диву давались, глядя на эту удачливую пару. И умны, и живут в ладу, и сына единственного учат в школе, где и панские дети учатся. «Дома баловаться будет, а к делу приучать его – еще рано», – говорил отец. «И правда, кто за ним дома присматривать будет? Ты – на бойне, я – в лавке», – добавляла мать. Маленький Костя рос один, без присмотра, как дерево в степи. Он не знал материнской ласки, да и видел ее изредка. «Матери дома нет, матери некогда», – постоянно слышал он от кухарки, заменявшей ему няньку. А отец только прикрикивал на него. Страшно ему, когда он вспомнит свои детские годы. Родители казались ему теперь бессердечными людьми, которых ничего не интересовало, кроме бойни и базара. От отца и матери он только и слышал разговоры о таксе на мясо и торговле. А люди с завистью говорили о них: «Вот кто наживается и богатеет». Жизнь показывала ему с самого детства только свои непривлекательные стороны, не будила в нем сочувствия к людям, сеяла в его душе недоверие и зависть.
– Знай: если ты не обманешь, тебя вокруг пальца обведут, – говорил отец, приучая сына к делу, после того как тот окончил школу. И рассказывал о тех проделках, на которые приходится пускаться, чтобы выгодно сбыть товар. Сын был послушным учеником, торгашеские плутни сначала ему даже понравились. «Мы только для тебя трудимся и копим, – говорила мать, – а ты, гляди, не растеряй отцовского добра. Чем больше наживешь, тем крепче на ногах стоять будешь. Деньги – сила, а в нашем сословии они все». Как ему было не пойти по проторенной дорожке? И люди его приохочивали к этому, похваливали: и отец с матерью хороши, а сын в них удался… Правда, еще играла в нем молодая кровь, нудно было от повседневных забот, загуляет порой в веселой компании – то шинок вверх дном перевернут, то утащут ворота со двора, где есть девка на выданье, и выставят на показ на базаре. Но скоро и этим невинным забавам пришел конец. «Пора, сынок, тебе жениться. Вот у Сотника дочка есть, хоть и некрасивая, зато послушная и не без приданого», – однажды сказал отец. И через неделю Константин уже был женат. С той поры для него весь свет закрыла черная туча. Он жил как в тумане, обирая людей и приумножая свое добро. Умерли родители, но слава их осталась. Сын ее упрочил – он стал поставщиком мяса для квартировавшего здесь полка, а потом и для всего города. Его имя можно было услышать в каждом доме. Вскоре он стал первым в мещанском сословии города. Это льстило его самолюбию. Но слава не утешала его. Самый близкий и родной человек, его собственная жена, отравляла лучшие и счастливейшие минуты жизни. Ее безумная ревность не давала ему ни минуты покоя. Дом стал для него адом, из которого приходилось убегать. И он направил всю свою энергию на хищническую наживу, разорение людей, и, казалось, мстил тем, которые, не имея ничего, все же были счастливы. Боже! Чего он только не натворил на своем веку. Сколько темных дел и людских слез лежит на его совести! Домашние неурядицы подстегивали его, как норовистого коня. Он неустанно мчался вперед и вот до чего доскакался. Теперь он сидит за одним столом с панами, сам стал паном. Бывшее графское гнездо принадлежит ему. Но какой ценой оно досталось? Если земство потребует у него свои деньги, пропал тогда Веселый Кут, а вместе с ним и он, Колесник. Все, на что ушли годы труда, как помелом сметет. Когда-то Загнибида, тоже плут первой руки, сказал: «Ой, допрыгаешься ты, Костя. Так тебя огреют, что век помнить будешь». Не было ли это пророчеством? Чует его сердце, что приближается беда. Скоро съезд… Он заходил к Рубцу, и тот ему издалека намекнул, что пора проверить земскую кассу. Колеснику показалось, холодное лезвие ножа коснулось его горла, когда он услышал эти слова. И жена ему говорила, что по городу ходят нехорошие слухи. «Он, – говорят, – купил имение на земские деньги и откармливает там гулящих девок!» Христя, первая, которую он полюбил больше всего на свете, – всего только гулящая! Разве это не насмешка судьбы?… «Ох, если бы вернуть прошлое, не была б она гулящей. Не был бы и ты, Костя, тем, чем стал теперь, – думал Колесник. – Не мутило б твою душу от постоянных плутней, жил бы ты в тихом углу мирно и счастливо. А что толку в твоем высоком положении в свете? Зачем оно тебе? Чтобы все видели, как ты с этой высоты полетишь вверх тормашками? Чтобы тыкали на тебя пальцами, приговаривая: „Вот он казнокрад, развратник!“
Колеснику стало страшно. Такой непреодолимый страх он ощутил впервые. Словно все внутри у него застыло и перестало биться сердце, он чувствовал, как на голове шевелятся волосы. И послышалось ему, как тысячеголосая толпа торжествующе кричит: «Так ему и надо. Собаке – собачья смерть!»
Колесник рванулся, вскочил и начал шагать по комнате.
Все вокруг спали мертвым сном, нерушимая тишина царила, казалось, во всем мире; только его шаги, словно неумолкающие укоры проснувшейся совести, раздавались в немой тишине ночи. Ему было горько, а еще тяжелей становилось от сознания своего полного одиночества: он знал, что ему не от кого ждать помощи или хотя бы совета.
На другой день Христя не узнала Колесника – таким он был желтым, осунувшимся, сумрачным.
– Что с тобой? – крикнула она.
Он пристально посмотрел на нее. Что-то безумное было в его взгляде.
– Ты болен, болен? – допытывалась она.
– Да… Всю ночь не спал. Не буди меня, – сказал он и снова закрылся в своей комнате.
– Что это с ним? Не дай Боже…
Страх и тоска овладели Христей. Если с ним что-нибудь случится, куда она денется, что ей тогда делать? Она только немного пришла в себя, как ее уже снова подстерегает страшная судьба гулящей девки. Вспомнилось предсказание Оришки: «Большое горе ждет тебя…» Неужели оно оправдается?
Христя и чаю не пила; она бесцельно бродила по комнатам, не зная, за что ей взяться. «А может, все еще обойдется», – мелькнула надежда. Она, крадучись, подошла к двери и неслышно приотворила ее. С затаенным дыханием прильнула к щели. Колесник лежал на спине, скрестив руки на груди. Лицо – бледно-синеватое, глаза закрыты. В одно мгновение она очутилась около него. Он пошевелился, застонал, потом склонил голову набок. Христя отодвинулась в сторону, чтоб остаться незамеченной, если он откроет глаза. Долго стояла она, глядя на его лицо, обросшее серебристой щетиной. Еще недавно оно было круглым и лоснящимся, а теперь вытянулось, глубокие морщины избороздили его вдоль и поперек. «Как он сразу постарел…» – подумала Христя.
Тяжелые мысли не покидали ее весь день, предчувствие неминуемой беды лишило ее покоя. Господи! Неужели? Только блеснул луч надежды и уже гаснет.
Колесник проснулся только к вечеру. Сон хоть и подкрепил его, но не вернул покоя. Следы пережитого были отчетливо заметны на его лице.
– Напугал ты меня, – сказала Христя, наливая ему чай.
Он только почесал затылок, но ничего не сказал.
– Ты еще не пришел в себя. Может, позвать лекаря?
– К чему? Не поможет кадило, коли бабу скрутило, – сказал он, болезненно усмехнувшись.
– Тебе не до смеха, а ты смеешься, – сквозь слезы сказала она.
Колесник схватился за голову.
– Боже, хоть ты не мучь меня! – крикнул он и убежал в свою комнату.
И снова всю ночь не умолкали его тяжелые шаги. Бледный свет утра еще застал его на ногах, понурого, с поникшей головой. «Одно, что осталось мне, – это сойти с ума. Другого выхода нет», – подумал он, махнул рукой и лег на постель, закрыв голову подушкой.
Со дня на день Колесник становился все более и более странным. Днем спит, ночью бодрствует, часто заговаривается.
– Ну, погадай, Костя, вывезет ли тебя и на этот раз кривая? Вывезет. Нет. Вывезет. Нет… – говорил он, опасливо поглядывая на свои ладони. Потом умолкнет, задумается. – Хоть бы одна близкая душа была, – крикнет и снова часами бродит по комнате.
Так шли дни за днями. Колесник нигде не показывался. Не выходила из дому и Христя. Ей хотелось пойти в больницу проведать Довбню, но как оставить Колесника?
Тем временем приближался земский съезд. По городу ходили слухи, что этот съезд будет очень интересным, говорили, что нельзя верить на слово членам земской управы, пора наконец хорошенько разобраться в их деятельности, а также посмотреть, целы ли доверенные кой-кому суммы. Иные с возмущением указывали на воровство и сетовали на то, что казна доверила выбранным денежные дела. Не надо было этого делать. Земство – земством, а деньгами лучше бы казна распоряжалась. Другие совсем не усматривали никакой пользы в земстве и говорили:
– Еще одна обираловка, а для государства – обуза. Раз коню отпустили поводья, дали ему свой норов показать, отучить уж трудно будет. Попомните мое слово: из этого земства ничего хорошего не получится!
Третьи жаловались, что «мужичье прет в земство, будто оно пригодно для этого дела». Отсюда и пошло воровство и растаскиванье общественных денег. «Пусти, – говорили они, – свинью за стол, она и ноги на стол».
Много сплетен и пересудов ходило по городу, но Колесник ничего не слышал. Однажды пришли к нему из управы узнать, вернулся ли он. Он прогнал посыльного, ничего не сказал ему. Потом прислали официальное письмо: представить отчет съезду. Колесник еще больше задумался. Он что-то долго писал, рвал написанное и снова принимался писать. С неделю занимался этой писаниной, потом на все махнул рукой и повеселел. Христя видела, что веселье это напускное, но ничего не сказала об этом Колеснику.
Утром он оделся и собрался уходить.
– Куда ты? – спросила Христя.
– В управу. У нас сегодня съезд. Забыла?
Перед уходом он сказал:
– Вот что: не забудь своего обещания помолиться за меня, когда я умру.
Христя с недоумением взглянула на него.
– Может, ты пойдешь навестить Довбню? – спросил он на прощанье и, не дожидаясь ответа, ушел.
«А в самом деле надо пойти… Узнает ли он меня? Все равно. Может, ему легче станет, когда он увидит, что не все от него отвернулись».
Христя оделась и пошла в больницу.
Там ей сказали, что еще рано. Посетителей пускают к больным только после врачебного обхода. Христя решила обождать в больничном саду.
День вдался ясный, безветренный. Осеннее солнце еще сильно пригревало, но в тенистом саду было прохладно. Зеленая листва, ярко окрашенная золотом и багрянцем, напомнила издали диковинные цветы на деревьях.
Христя вошла в сад и села на скамейку. С другого конца доносился шум, по вычищенным дорожкам сновали больные в желтых халатах и белых колпаках. У Христи сердце замерло при виде этих несчастных, похожих на желтые тени.
«А может, он среди них?» – подумала она и пошла по дорожкам, заглядывая в лица встречным. Христя обошла весь сад, но Довбни нигде не было. Она снова вернулась на свое место, откуда хорошо виден был больничный двор.
Вот жалкая кляча приволокла возок, на котором лежал больной, прикрытый рядном. Голова и лицо его были забинтованы. За возком, понурившись, шла женщина, видно, жена больного. Четыре санитара несли на носилках человека с восковым лицом, который стонал. Кто-то выбежал из больницы с медицинским тазом в руках и плеснул из него в яму что-то красное. Кровь? Вдруг откуда-то выбежала полуголая женщина и, всплескивая ладонями, побежала на улицу. Кто-то закричал: «Куда же вы глядите? Сумасшедшая убежала! Ловите ее! Ловите!» И все погнались за ней. Немного спустя два человека вели ее за руки, а она, нагибаясь то к одному, то к другому, пыталась их укусить. Дойдя до калитки, один из провожатых толкнул ее во двор, раздался оглушительный хохот. А слуга громко жаловался на умалишенных, что с ними никак не справишься.
– Здоровы, проклятые! Известно, нечистая сила их обуяла!
Христе так страшно стало в этом месте, где скопилось столько несчастий, болезней и уродств, что она уже готова была убежать отсюда, но вспомнила про Довбню и снова пошла в больничную контору.
– Довбня? – спросил смотритель. – Был такой в белой горячке. Кажется, выздоровел. Сейчас.
Он прошел в соседнюю комнату и, возвратившись, сказал, что уж третий день, как Довбня выписался.
«Вот так собралась проведать… Где ж теперь искать его?» – с досадой подумала Христя.
С поникшей головой она медленно шла по улице, думая об умалишенной… Потом мысли ее незаметно перенеслись на Колесникова. Чудной он стал. Как бы не сошел с ума!
– А-а, Христя! Здорово, черноброва! – услышала она вдруг знакомый голос.
Христя подняла голову – перед ней стоял Проценко. Поблизости никого не было.
– Где ты была, моя старая любовь? – спросил он, заглядывая в ее грустные глаза.
– Я? В больницу ходила… проведать Довбню.
– Опоздала. Он еще дня три тому назад ушел из больницы.
– Там мне так и сказали. Где ж он теперь?
– Где? Верно, добрался до первого кабака и засел там. Что ты на меня так смотришь? А ты ничуть не изменилась. Еще похорошела. Пойдем, я провожу тебя.
– Когда никого нет поблизости, можно и проводить, – промолвила Христя, ускоряя шаг.
– Чудная ты! Был когда-то вольной птицей, да отрезали крылья.
– Значит, нашлась такая, – усмехнулась она.
Некоторое время шли молча.
– Что ж вас нигде не видно? То, бывало, забегали к Константину Петровичу, а теперь – ни ногой.
– Мошенник твой Константин Петрович! Плут! – Христя подняла на него удивленные глаза. – Украл земские деньги, имение себе купил. Да какое? Веселый Кут. В земской кассе двадцати тысяч не досчитали. Сегодня такое творится в земстве, что только держись. Под суд его отдали.
У Христи закружилась голова, перед глазами пошли зеленые круги. Теперь все ей стало понятно – и причина дурного настроения Колесника, и его странные речи.
Ей казалось, что земля под ней колышется. Она чуть не бежала, но была уверена, что еле переставляет ноги.
– Отчего ты так летишь? – спросил Проценко.
Она остановилась перевести дыхание.
– Дошло до тебя наконец? – злорадно усмехаясь, спросил Проценко. – Теперь снова на распутье? Знаешь что? Если не хочешь пропасть, брось своего старого друга да нанимайся к моей жене в горничные. Только ни гугу! Хорошо тебе будет. Я все помню, Христя. Мне хочется тебе чем-нибудь услужить.
Перед ее глазами померкнул свет.
– Прочь от меня, ирод! Сатана! – крикнула она и пустилась бежать без оглядки.
Она ничего не чувствовала, не видела, как Проценко бросился вслед за нею, едко сказал:
– Ну-у! Я ж доберусь до тебя, шлюха!
Из подворотни одного дома выскочила собака и погналась за ней. Да разве догонишь ее?
– Это что за лисичка так бежит? – крикнул кто-то.
– Федор! А ну догони! – крикнул один извозчик другому.
– Поедем.
И они пустились за ней вдогонку.
А Христя все бежит без оглядки. Вот и крыльцо ее дома.
Двери тут обычно заперты – надо позвонить, чтобы открыли. Христя забыла об этом и резко рванула ручку двери. На этот раз она не была заперта и с грохотом распахнулась. Христя бросилась вперед, но тотчас же остановилась как вкопанная…
Перед нею на толстом шнуре висел… Колесник. Христя пошатнулась, крикнула и упала навзничь.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Где я? – были первые ее слова, когда она очнулась.
Кругом тихо, темно. Что-то шелестит под нею. Да это же солома. Откуда она взялась? Вверху что-то смутно сереет. Господи! Что с ней случилось?
Христя поднялась, в ушах у нее звенело. От слабости она снова легла… что-то пробежало по лицу.
Как безумная, вскочила Христя и сразу все вспомнила. Она видит перед собой Проценко, вот он шепчет: «Добра тебе желаю – иди ко мне в горничные»… Потом вспомнилось ей, как бежала… как увидела висевшего Колесника…
Как же она очутилась здесь, в этой мрачной дыре? Этого Христя никак не могла вспомнить.
Ощупью пробралась она к окошку. Потянулась к нему руками – но не достать.
Она поднимается на цыпочках, машет рукой и ударяется в железную решетку.
Да это же тюрьма! Она – в тюрьме! За что! Рыданья душили ее. Верно, что-то дурное сделала, если ее бросили сюда.
Слезы градом покатились из ее глаз. Долго она плакала, уткнувшись лицом в солому, потом впала в сонное забытье. Когда проснулась, сквозь железную решетку уже пробились первые лучи солнца, и веселые зайчики мелькали на грязной соломе. Стены, покрытые плесенью и черными пятнами, казалось, надвигались на нее, чтобы задушить. Издали доносился приглушенный шум.
Потом что-то задребезжало у нее над головой, и дверь в камеру растворилась.
– Эй, ты! Спишь там или очумела? – окликнул ее грубый голос. – По-барски почивать изволишь. Подь сюда!
Христя поднялась. У дверей стоял стражник.
– Да живей, живей! Что, словно неживая!
Христя покорно пошла за ним, с ужасом думая, на какую еще муку ее ведут.
Ее ввели в какую-то большую комнату.
– Посиди здесь и обожди. Сейчас пристав выйдет.
Теперь только Христя сообразила, что она была в полицейском участке. Каково же было ее удивление, когда она увидела вошедшего Кныша!
– А, это ты, певунья! – сказал он. – Что ж, ты хорошо выспалась в моей опочивальне? В ней тихо и мягко, не то что на перине у Колесника.
Христя заплакала.
– Чего же ты плачешь? Я же тебя не бью. Перестань. Скажи лучше, что ты знаешь про Колесника. От чего он повесился? Может, сама и помогла?
– Кабы знала, что такое случится, я б из дому не выходила.
– Где ж ты была?
Христя рассказала ему обо всем, не утаив и свой разговор с Проценко.
Кныш только свистнул и зашагал по комнате, искоса поглядывая на Христю.
– Что ж ты теперь будешь делать? – спросил он немного спустя. – Пойдешь к Проценко?
– Чего я там не видела? Кабы мне одежду мою вернули…
– Одежду?… Вот что… ты лучше останься у меня.
– Здесь. Чтобы блохи меня заели?
– Нет, не в кутузке… а там, в моей квартире. И одежду свою получишь, и отпустить тебя скорее можно будет. А то, пока дело кончится, в кутузке тебя и вправду блохи заедят.
У Христи сжалось сердце. Вот куда ее снова толкает судьба. А она думала… Впрочем, нет! Она еще окончательно не погибла, пока не увяла ее красота.
– Так ты… согласна? – запинаясь, спросил ее Кныш и, подойдя ближе, взял ее за круглый подбородок.
Христя покорно опустила ресницы.
– Ну, гляди же мне!
– Я ничего не ела… Есть хочу.
– Иванов! – крикнул Кныш.
Словно из-под земли появился на пороге полицейский.
– Отведи ее ко мне. И накорми. Самовар готов?
– Готов, ваше высокоблагородие! Слушаюсь! – и он повел Христю на квартиру пристава.
А вечером Христя и Кныш уже мирно пили чай. На столе стояла бутылка рому. Кныш все время усердно подливал и в ее, и в свой стакан. Его щеки и глаза горели от возбуждения. Он весело болтал. Христя лукаво на него поглядывала. Ей тоже было весело. Только раз, когда она потянулась за бутылкой, ей вдруг померещилось, что на нее глядит синее лицо Колесника с закрытыми глазами. Она вздрогнула и закрыла глаза.



