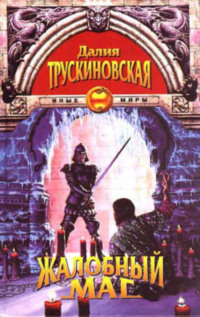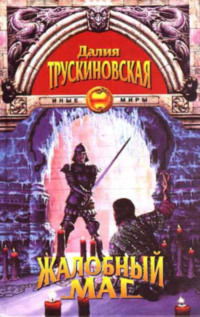Полная версия
Блудное художество
Она даже не встала, а просто смотрела на него, все отчетливее понимая, что жизнь в усадьбе не была отдыхом для души, что душа все это время как-то непостижимо трудилась, и вот сейчас сделалась ясна вся ее усталость.
– Идем, любовь моя, – сказал Мишель. – Все переменилось! Идем, мы долго ждали, но дождались своего часа! Ты и вообразить не можешь, сколь я благодарен тебе за то, что ты меня не бросила… я не мог позвать тебя, но я знал, что ты тут, что ты рядом… идем, идем, время наше настало!..
Он взял Терезу за руки, словно помогая ей подняться, и она покорно встала, и увидела его глаза – светлые, безумные, любимые.
Красота вернулась, лицо было вновь узнано и принято.
Губы соприкоснулись – это не было еще поцелуем, так – знак близости минувшей и близости будущей, обещание нежности, не более. И Тереза поняла, что у нее еще хватит душевной силы, хватит ненадолго, чтобы сопровождать Мишеля в его странствиях и авантюрах, а когда сила иссякнет – она просто умрет.
Мишель вывел ее из вонючей избы, у ворот стоял экипаж – старая берлина, сзади были привязаны сундуки и коробья.
– Мы возвращаемся в Москву, любовь моя, – говорил Мишель, обнимая Терезу за талию. – Есть люди, которые знают мне цену. Для нас уже готово жилище! Мне помогут отомстить…
– Но твое здоровье?.. – наконец спросила она, хотя и так было понятно – проведенная в запертом холодном доме ночь крепко подкосила Мишеля, и не надобно врачей, чтобы разглядеть болезнь в его глазах, ощутить ее при объятии. И еще дыхание – он слишком часто делал вдохи, воздух с трудом проходил сквозь его горло и в легкие, и из легких.
Той ночью он, ругаясь и даже однажды заплакав, рассказал ей, что в младенчестве много болел, и уж не чаяли, что выживет. Она не знала этого, не знала также, что восьмилетним ребенком он, едучи весной с родителями из гостей, попал в неприятность, словно бы предвещавшую все последующие: их сани на переправе провалились в полынью. Людей вытащили быстро, отогрели в ближайшем доме, но это стоило Мишелю двух месяцев, проведенных в постели.
– Здоровье мое вернется, а для этого необходимо главное – отомстить. Едем, любовь моя, едем! – твердил он, подсаживая Терезу. – Все вернется, мы еще будем счастливы, мы поедем в Париж! Клянусь тебе, и года не пройдет, как мы будем жить в Париже!
Карета заколыхалась на колдобинах, Терезу и Мишеля качнуло, они прижались друг к другу.
– Знаешь ли ты древнюю историю? – спросил вдруг Мишель. – Я готов крикнуть кучеру Фомке: вперед, ты везешь Цезаря и его счастье!
В восторгах Мишеля было нечто тревожное.
– Я не хочу в Париж, – сказала Тереза.
Для Парижа она уже не годилась – стала стара, некрасива, и то единственное, чем могла бы она выделиться в свете, музыка, отдалилось от нее. В Париже она прежде всего потеряла бы Мишеля – хватило бы юных светских прелестниц, желающих осчастливить светлоглазого русского графа.
– Поедем, куда пожелаешь, любовь моя. Но сперва – московские дела… Я знал, что меня найдут. Рано или поздно нашли бы, я знал, все получилось даже лучше, чем я полагал… этот болван Горелов!.. Какого черта он вздумал жениться неизвестно на ком? Все наши неудачи начались с этой невозможной глупости его! То-то теперь его сиятельство счастлив и блажен! Взят с оружием в руках – так он же сам сделал все возможное, дабы его взяли с оружием в руках! Непременно ему надобно было затеять спектакль с присягой!.. Господь уберег нас, любовь моя, Господь ведет нас… но я не покину Москвы, не рассчитавшись с этим ублюдком!..
Тереза слушала голос и пропускала мимо разума слова. Однако желание Мишеля мстить ее обеспокоило. Она довольно знала пылкий нрав возлюбленного и полагала, что, обзаведясь врагом, Мишель не угомонится, пока не заколет этого врага шпагой или сам не рухнет с кровавой пеной на губах.
Но спрашивать она не стала. Она не хотела ни о чем спрашивать. Жизнь снова менялась, и Тереза еще недоверчиво, но уже с любопытством наблюдала эти изменения.
Скрипели каретные колеса, дребезжало что-то под днищем, постукивало, попискивало, словно эта древняя берлина была живым существом, левиафаном на службе Мишеля, и с прилежанием доброго слуги несла их с Терезой в иной мир – в мир гармоничных звуков, в мир одушевленных голосов. А за оконцем, в щели между занавесками, была живая молодая зелень – не та тусклая, которая даже не радовала Терезу сквозь годами не мытое окно ее комнаты, а зелень, победившая черно-белую зимнюю палитру. И воздух! Пока Терезу везли из усадьбы в избу, она не находила в нем радости – ее после затхлых запахов усадьбы раздражал запах свежего конского навоза, не более. Теперь же, в карете, она вдруг поняла, что можно дышать полной грудью и получать от этого наслаждение. Мелочь лепилась к мелочи – и жизнь возрождалась во всей пестроте флорентийской мозаики, составленной из полудрагоценных камней – оттенков, может, не чрезмерно ярких, но изысканных.
Страх отступил – надолго ли?
– Он мне за все заплатит, клянусь! – пылко сказал Мишель. – Ты видела, какое у него было лицо? Ему приятно издеваться над людьми! Когда он велел запереть нас в том доме, он знал, что это погубит меня! Он знал, что я едва держусь на ногах – и оставил меня в том доме! На всю ночь! Доктор объяснил – если бы не это, болезнь, сидящая в легких, не стала бы подниматься наверх, к горлу, но меня вылечат… У меня к нему обширный счет – и есть люди, которым он досадил не менее. Ты можешь заказывать по нему панихиду, любовь моя, ведь он был тебе так дорог!..
Этот внезапный упрек был как удар когтистой хищной лапой по обнаженному телу спящего человека. Тереза повернулась к Мишелю так решительно, как только могла – они сидели в обнимку, и это недовольное движение могло бы даже привести к поцелую – так близко оказались лица, глаза, губы.
– Я не понимаю тебя. Мишель, кого ты обвиняешь, кому хочешь отомстить?
– Виновнику всех бед наших – и, поверь, жить ему осталось менее недели!
Она уже догадывалась, кого осудил на смерть граф Ховрин, но не хотела пускаться в беседу о виновности или же невиновности этого человека.
Мишель же, напротив, требовал, чтобы она ввязалась в спор, дающий ему возможность доказать свою правоту.
– Может быть, тебе жаль господина Архарова, которому ты столь обязана? Не думай об этом, любовь моя, ведь ты давно уже вернула ему деньги! Участь его решена, он никого более не погубит и никому не встанет поперек дороги, о, ты даже вообразить бессильна, какая против него плетется интрига! Это будет знатный удар! Двор содрогнется!
Тут карета попала в выбоину, Терезу и Мишеля подбросило, они невольно оттолкнули друг друга.
Когда Мишель снова заговорил, это был уже другой человек, спокойный и деловитый.
– Прежде всего надобно сменить твой гардероб, любовь моя. Подумай, что тебе необходимо, чтобы не тратить на приобретение лишнего времени. Жить мы будем не в самой Москве, а в Тушине, квартира для нас уже готова. Я даже велел поставить в гостиной клавикорды…
И тут Тереза поняла, что никогда в жизни более не прикоснется к клавишам.
Это решение было разом и предчувствием беды, и какой-то неотвратимой карой. До сих пор она сама определяла свои отношения с музыкой, но теперь появилась посторонняя сила, имевшая право либо даровать ей музыку, либо лишить ее музыки окончательно. И эта сила была как-то связана с московским обер-полицмейстером. Тереза еще не понимала, как именно, однако внутренний голос принялся повторять то, что сказал ей Мишель об Архарове. Об этом некрасивом офицере с обнаженной шпагой, который все не желал и не желал уходить из темной гостиной ховринского особняка.
Архарова ждала смерть. Архарова ждала смерть. Архарова ждала смерть…
* * *– Ваша милость, я продиктовал донесение, – сказал Макарка. – Сейчас господин Щербачов кончит перебелять и принесет!
– Чего ж ты ему так много надиктовал? – спросил обер-полицмейстер. Парнишка ему нравился – был скор, находчив, весел, исполнителен.
– Я, ваша милость, точно описал всю дорогу, а как я улиц не знал, то говорил приметы!
– Хорошо, хвалю.
Такие слова от Архарова слышали крайне редко. На сей раз он хотел показать Макарке, что доволен, не только по случаю удачного наружного наблюдения за господином де Берни, но и с расчетом на будущее – чтобы впредь служил усердно. Награда была точно отмерена и выдана в сопровождении кивка и полуулыбки.
Хорошо еще, что Архаров не додумался до орденов, имеющих хождение внутри Рязанского подворья. То-то бы суеты вокруг них развел – иному давал, у иного отнимал. А ведь был уж близок к тому, когда с помощью Абросимова разбирал загадочные бумаги, найденные на месте ограбления. Сперва показалось было, что воскрес маркиз Пугачев и принялся в новых манифестах развешивать титулы и чины своему неграмотному воинству.
«Дом его сиятельства князя Федота Панкратьевича Ахлебаева, канцелярия, стол 2-й исполнительный» – так начинался первый документ, ввергший Архарова сперва в недоумение, потом в хохот: в России не было князей Ахлебаевых! Далее шла деловая переписка относительно зайца, принесенного кучером Степаном и гривенника в вознаграждение за оного зайца, занимавшая шестнадцать листов. Листы зачитал вслух Саша, присутствовавшие при сем Архаров, Шварц, Абросимов, Тимофей и Щербачев к концу уже едва не рыдали от смеха. На всякие шалости были горазды мелкие помещики, но устроить дом свой сообразно чуть ли не Сенату, на возвышенно-канцелярский лад, с присутствиями, столами, отделениями, слушаниями и резолюциями, включая ордер ключнице Фекле на изготовление жареного зайца, – до этого, пожалуй, один этот Ахлебаев и догадался.
Однако самозванец был симпатичен Архарову своим желанием расставить дворню по ступенькам, устроить для каждого систему наград и перемещений со ступеньки на ступеньку, словом – возбудить в людях своих желание хорошо служить, пусть и за ничего не стоящие почести.
Вот и сейчас Макарка прямо расцвел от столь редких в архаровском обиходе слов.
– Давай-ка, молодец, начни доклад, а бумагу я потом погляжу, – усугубил обер-полицмейстер свое благоволение.
Шестнадцатилетний Макарка приосанился и, стоя перед архаровским столом пряменько, как на параде, заговорил весьма бойко.
– Я, ваша милость, как велено, пошел на наружное наблюдение. Как господин Шварц учить изволил, сперва все оглядел, где парадные двери, где двор, где ворота, нарисовал карандашом, извольте…
Макарка добыл из кармана мятый листок и, несколько смутившись из-за его неприглядности, положил на стол.
– Вот так Столовый переулок, вот так – Скатертный, вот дом вдовы Огарковой, извольте видеть – переулки узкие и долгие. Вот тут двор, тут выход в Скатертный, а вот так и вот так можно дворами пробраться в Столовый.
– И ты там открыто лазил? – недовольно спросил Архаров.
– А я у господина Шварца в чулане ливрею взял, башмаки с белыми чулками, корзинку. Ходил, спрашивал – не забегала ли господская моська, знаете, ваша милость, есть такие гладкие, с плоскими рыльцами, и на ходу хрюкают.
– Шварц научил?
– Он, ваша милость, нас с Максимкой многому учит. Мы умеем вдвоем сопровождать! – похвастался Макарка. – А Демьян Наумович научил из кармана бумаги вытаскивать совсем неприметно…
Архаров решил про себя, что наука, конечно, для архаровца полезная, однако Демьяну Наумовичу следует дать хорошую оплеуху, чтобы не портил мальчишек. Тут же явилась другая мысль – отчего не Яшка-Скес, известный шур, обучает их воровским ухваткам, а именно Демка? Сразу последовал ответ: Яшка, повязанный круговой порукой, более или менее честно выполняет обязанности, и коли завтра велено будет архаровцев распустить, на его бледной роже не отразится решительно никакого страдания, он преспокойно вернется к прежней жизни; Демка же рвется вверх, желает добиться чинов и денег, вот и совершает благодеяния, о коих его никто не просил.
Для обер-полицмейстера эти хитросплетения человеческих интересов, эти запутанные связи между его подчиненными были куда занимательней французских романов, даже в артистическом чтении Клавароша.
– Продолжай, Макар Иванович…
Макарка улыбнулся – понял, что это обер-полицмейстерская неуклюжая шутка.
– Так, ваша милость, я там пошарил и три выхода сыскал. Этот господин Шитов, у которого наш человечек служит…
Архаров усмехнулся – паршивец прелестно скопировал интонацию бывалого полицейского.
– Так он во втором жилье комнаты снимает, и я со двора на окна глядел – там из крайнего окна можно запросто на крышу каретного сарая перебраться, только это не огарковский сарай, а соседский.
– И ты решил, что почтенный господин будет по крышам скакать?
– Так он и скакал же!
Вот тут Архаров и поднял наконец глаза от Макаркиного плана.
Глаза подчиненного не лгали – он точно видел, как немолодой француз благородной внешности, свидетельствующей о склонности к кабинетным занятиям, ночью выбрался в окошко, как ежели бы его в двери не выпустили, и дворами, огородами, закоулками отправился в сторону Козьего болота.
Это было еще одно недоразумение московской жизни – в трех шагах от Тверской доподлинное болото с прескверной репутацией.
Болото как таковое для холмистого города было не в диковинку – вот ведь и Балчуг по-татарски значит «болото», и на Неглинке, у самого Охотного ряда есть топкое место под названием Поганый брод, да и вспомнить, где казнили маркиза Пугачева… Но ни одно не обросло столь страшными преданиями.
Окрестные жители, тараща глаза, жутким шепотом сообщали о живущем на дне запущенных и заросших Патриарших прудов чудище, которое хватает и утаскивает под воду гусей, уток, даже свиней, что пришли на берег поваляться в грязи, даже тех пьяных дураков, что лезут туда искупаться. И вроде неглубоко, а шарить баграми бесполезно…
Архаров же полагал, что нечистая сила – сама по себе, а лихие люди, спускающие в болото труп загулявшего купца, сначала освободив его от одежды и от кошелька, – сами по себе.
Дурная слава болота каким-то загадочным образом увязывалась с его названием, о чем Архаров не знал. Были Козьи болота и в Киеве, и в Муроме, и в самом Санкт-Петербурге, каждое славилось своими пакостями. Московское, кроме всего прочего, еще и благоухало примерно так же, как Неглинка.
Было время, когда с этим злом пытались бороться – еще патриарх Иоасаф велел выкопать три рыбных пруда, питавшиеся подземными ключами, и таким образом осушил эту местность. Кроме всего прочего, выращивали там коз, на продажу шли и молоко, и шерсть, откуда и взялось название болота. Но император Петр Алексеевич избавил Россию от патриархов, ухоженная Патриаршая слобода захирела, за прудами не следили более, и болото вернулось на прежнее свое место. Отдельные его края были вовсе непроходимыми.
– Стало быть, ты провожал его до болота? – спросил Архаров.
– Нет, ваша милость, он раньше в дом вошел.
– Что за дом?
– Вот тут, – Макарка осторожно показал на план местности.
– А улица?
– Я приметы запомнил. Там церковь приметная.
– Прелестно. И что – ты ждал его у дома?
– Я, ваша милость, вздумал подождать на лавочке, – жалобно сказал Макарка, – там лавочка у ворот стояла, а я с раннего утра в наблюдении… Задремал, поди, а он либо там остался, либо как-то иначе вышел, либо я его не заметил… я до рассвета сидел, глядел…
Следовало выругать парня, но Архаров сдержался. Кабы он знал, что француз ночью в окно полезет, то велел бы наладить попеременное наблюдение, чтобы трое человек поочередно присматривали за домом вдовы Огарковой. И то еще диво, что Макарка торчал там до полуночи и увидел сию странную вылазку.
– Позови Арсеньева, Клавароша, Савина.
Архаров отдал Федьке донесение Макарки и отправил их обоих разбираться, в каком таком доме исчез господин де Берни. Жеребцов получил приказание наладить более основательное наблюдение за французом. От Клавароша потребовалось пространное описание всего, что он подметил при своем знакомстве с учителем.
Архарова более всего интересовано положение этого учителя арифметики в семействе отставного гвардейского полковника Шитова. Должен же быть какой-то договор с хозяином о труде и вознаграждении, а также об условиях проживания.
Сам он, не имея детей, никогда учителей не нанимал, но если бы нанял – первым делом запретил бы приставать к дворовым девкам, совершенно не заботясь, где француз будет удовлетворять амурные побуждения.
– Когда сам я служил в учителях, то кондиции были таковы: от хозяина кровать со всей постелью, две пары платья… Меня научили соотечественники, что надобно писать «купленное сукно», потому что эти господа могут приказать сшить кафтан из сукна… м-м-м…
Клаварош изобразил руками нечто вроде маятника.
– Сашка! – крикнул Архаров.
Саша, сидевший в соседней комнате, тут же явился.
– Клаварош, как это будет по-французски?
– Tisse sur metier a bras.
– По-русски?
Саша на мгновение задумался.
– Домотканый, поди, ваша милость.
– Не уходи. Клаварош, продолжай.
– Еще в кондициях пишут шубу, рубашки, башмаки, чулки. Будет или нет человек для услуг… Еда с господин… господского стола. Деньги – мне обещали сорок рублей в год, а когда окажу иные услуги, будет иная плата.
– Пишут ли что о домашнем распорядке – когда можно уходить со двора?
– Я не писал. А когда бы хотел покупать одежду сам – то платили бы восемьдесят рублей. Но проверяли бы, дабы одет был непостыдно моей должности, сукно на кафтан не меньше рубля аршин, шерстяные чулки и платье холстинное – не велено.
Архаров хмыкнул – зимой он сам предпочитал простые шерстяные чулки, потому что – поди знай, куда понесет тебя в ближайшие полчаса нелегкая из теплого кабинета…
– Ты, мусью, встреться-ка с тем кавалером еще раз. Пожалуйся – сыскал-де место, да только со двора уходить не велено, так не надобен ли его хозяевам кучер, который по уговору дважды в неделю будет по вечерам уходить на два, на три часа. Придумай что-нибудь – метреску-де завел…
– Я придумаю, ваша милость.
Отпустив всех, кого приспособил к слежке за учителем-французом, Архаров стал собираться в Пречистенский дворец. Нужно было доложить государыне, что она вольна переезжать в Коломенский дворец – он безопасен от всяких неприятностей, а заодно и уточнить время ее паломничества к Троице-Сергию. Кроме того, он был приглашен на обед.
Архаров уже освоился в обществе государыни, но прекрасно видел – чем-то не угодил, лицом ли, фигурой ли, и менее всего грешил на многословие, а князь Волконский тоже не догадался подсказать, чтобы подчиненный растолковывал императрице свои мысли менее дотошно – не с дурочкой же говорит, а с умнейшей дамой во всей империи.
Но тут бы он зря потратил время: отнюдь не сомневаясь в уме государыни, Архаров постоянно помнил, что она – женщина, а значит, существо, нуждающееся в руководстве, иначе наломает дров. Если сему очаровательному существу не объяснить все досконально – совесть замучает…
Государыня была занята делами, Архаров приготовился ждать. Во дворце толклось немало народу – иные званы на обед и прибыли заранее, иные – в каких-то непонятных надеждах, иные – и просто по службе, поскольку жили тут же, во дворце, и даже не имея на тот час никаких обязанностей, все равно околачивались среди знатной публики. Тем более, что при выходе государыни следовало присутствовать возможно большему числу дам и кавалеров, хотя к столу после этого отправлялось с ней человек сорок.
Архаров рассчитывал после обеда блеснуть своим умением играть в бильярд – если государыне угодно будет забавляться бильярдом, а не картами, шахматами или шашками. Чаще всего она, как ему уже было известно, играла в карты, но и к бильярду несколько раз подходила.
Ожидая, он внимательно оглядывал придворных, определяя по их поведению степень близости к государыне. И зазевался – не заметил, как рядом с ним встал отставной генерал-майор Шестаков. Жил он на Большой Дмитровке, Архаров знал его дом напротив Успенского храма, построенного добрых двести лет назад. С храмом постоянно возникала путаница – многие москвичи почему-то привыкли его звать храмом преподобного Сергия, хотя этому святому был устроен лишь один из приделов.
Шестаков явно был зван к обеду, и Архаров знал, за что старику такая милость – в Москве было недостаточно гостей классных чинов, так что и отставному генералу выпадала порой такая удача. Для такого случая их с самого начала собрали и представили государыне. Тут-то Шестаков и повеселил общество.
Екатерина Алексеевна считала долгом с каждым перемолвиться словом. Вот и Шестакову, когда он раскланялся, сказала любезно и с приятным сожалением в голосе:
– Я вас до сих пор почти не знала.
– Да и я, матушка государыня, вас не знал, – со всем московским простодушием объявил радостный Шестаков.
– Да где и знать меня, бедную вдову! – таков был немедленный ответ.
После чего всякое появление Шестакова в Пречистенском дворце уже вызывало у придворных любопытство: чем-то еще повеселит?
Один лишь Архаров вовсе не желал находиться в момент веселья рядом с невольным проказником. Ему все казалось, что общий смех относится и к тем, кто случайно оказался поблизости от Шестакова.
Не успел он отойти, как явилась государыня и пошла вдоль ряда красавиц, приседающих в реверансах, и склоненных в поклоне кавалеров. Многим говорила нечто благодушкое, делала вопросы, выслушивала ответы, завязалась некая общая беседа и, оказавшись рядом с Архаровым, императрица, продолжая ее, обратилась к Шестакову:
– А ваш дом где, Федор Матвеевич?
– У Сергия, государыня, – отвечал генерал-майор.
– Да где же этот Сергий?
Архаров забеспокоился – сейчас явится, что один и тот же храм имеет два прозвания, и не окажется ли, что полиция и за такими недоразумениями обязана следить?
– Против моего дома, ваше величество, – объяснил Шестаков.
Государыня несколько нахмурилась и, кивнув Архарову, прошла дальше, а оставшиеся у нее за спиной придворные тут же принялись шепотом перешучивать старика.
Пока он думал, что означает сей кивок, к нему подошли немолодые супруги, граф и графиня Матюшкины. Как-то мгновенно оказались рядом, всем видом показывая, что сопутствовали государыне и лишь на шаг от нее отстали в этом шествии.
Графиня Анна Андреевна и смолоду была собой нехороша, зато сообразительна, услужлива, и умела понравиться высокопоставленным дамам. Когда государыня тридцать лет назад вышла замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны Петра Федоровича и сделалась великой княгиней, к ней, кроме прочих знатных особ, была приставлена в качестве фрейлины молодая (в двадцать четыре года-то незамужняя!) княжна Анюта Гагарина. Она умудрилась явить свою преданность великой княгине и одновременно сподобиться благосклонности императрицы. Просидев в девках до тридцати двух лет, княжна вдруг нацелилась на жениха, который мог почесться первым при дворе красавцем, хорошего рода, хотя шалопай. Анна Андреевна сумела привлечь к делу своего сватовства саму императрицу и благополучно сделалась госпожой Матюшкиной. Эту историю Архарову рассказал Шварц – он немало помнил приключений из прежнего царствования. Супруга ее восемь лет спустя возвел в графское достоинство австрийский император Франц, так что Дмитрий Михайлович стал графом Римской империи – кстати, не единственным в России. Государыня же Екатерина в день своей коронации пожаловала бывшую фрейлину в статс-дамы.
Архаров недолюбливал большой свет. Ему все казалось, что он забавляет этих богатых и высокомерных господ. Скрывая волнение, он старался быть безмолвным, как каменный истукан, но вдруг срывался в какую-то потешную суетливость, которая самого его изрядно бесила. Однако с этими супругами следовало взять весьма сдержанный тон – что бы ни толковал Михайла Никитич, а государыня их за что-то недолюбливала.
– Что, батюшка Николай Петрович, все сервиз мадам Дюбарри ищем? – вдруг спросил граф. – Наслышаны, наслышаны! Сказывали, изумительной работы сервиз, полировка – истинное художество… Мы с Анной Андреевной уж об заклад бились, я ваш давний почитатель, говорю ей – сыщет господин Архаров сервиз! Так она мне сказывает – нет, да и только.
Графиня молчала, не оправдываясь.
Архаров безмолвно послал чересчур разговорчивого отставного сенатора Захарова к монаху на хрен.
– До сей поры вы все покражи на Москве находили, – продолжал граф, – так Анна Андреевна и полагает, что именно этого орешка вам не раскусить! Не все ж кумплиманы выслушивать… а я, батюшка, в ваш талан верю и хоть сейчас готов государыней дарованную табакерочку против оловянной пуговки поставить, что коли тот сервиз доподлинно в Москве – вы его из-под земли откопаете!
Архаров знал про себя, что чрезмерно подозрителен. Но обвисшее лицо отставного красавчика ничего хорошего не выражало, голос был фальшив и ехиден. Супруга, опытная по части продворных контр, молчала и улыбалась. При ней никак нельзя было высказаться по-мужски.