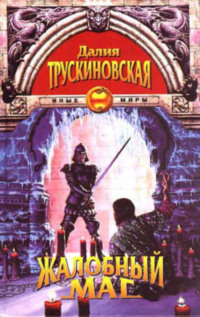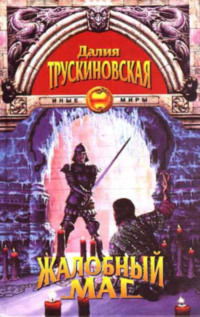Полная версия
Подметный манифест

Далия Трускиновская
Подметный манифест
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
– Архаровцы сбесились! – пронеслось по Мясницкой.
Ко всяким чудесам привыкло здешнее население, и суета вокруг Рязанского подворья на Лубянской площади стала делом привычным. Но такого еще не видывали.
Бежали двое в расстегнутых мундирах, причем один был за старшего, а другой, страхолюдный, тащил нечто округлое и рогожей окрученное. Бежали, переругиваясь, причем старший, понятное дело, торопил, а подчиненный жалился на жар и грозился свой ценный груз уронить. Так и вышло, Однако подчиненный, споткнувшись, уже в полете умудрился отбросить ношу подальше. Тут и оказалось, что архаровцы тащили к себе на подворье немалый котелок с крутым кипятком.
Котелок с грохотом покатился, пугая баб, кипяток расплескался, визгу было – в Кремле, поди, услышали.
Упавший вскочил, подобрал рогожу, догнал котелок, сквозь нее ухватился за края и понесся назад, а старший – за ним, поражая слух москвичей разнообразными посылами. Оба вбежали в известный трактир «Татьянка». Там их встретили весьма громогласно. Несколько минут спустя по Мясницкой пробежал к трактиру всем известный парнишка, служивший в полиции на посылках, по прозванию Максимка-попович, и тоже сгинул в недрах «Татьянки». Не успела окрестная публика, приказчики при дверях хозяйских лавок и уличные торговцы с торговками, обменяться мнениями относительно этой беготни, как выскочил старший из полицейских служителей.
Его многие знали в лицо и в глаза называли ласково – Федя, а то и почтительно – Федор Игнатьич. За глаза же – Федька-мортус или даже Федька-негодяй (ни для кого на Москве не было секретом, откуда взялись архаровцы; коли не все, так немалая их часть; а в слово «негодяй» большого зла не вкладывали – ну, прозвали так мортусов в чуму, и прозвали, что ж теперь делать!).
Федька завертелся, высматривая нечто нужное, и с криком «Стой, тетка, стой!» кинулся хватать просто одетую бабу, в крашенинном сарафане, но в кокошнике, выложенном бусами, от дома к дому тащившую за собой тележку, на коей стоял бочонок с коровьим маслом.
Внимание полиции мало кому из уличных торговок лестно, и баба попыталась удрать. Федька догнал ее и потребовал ссудить для государственных нужд тележку. Баба поняла, что ее грабят, и подняла крик. Тут-то и полетело по Мясницкой заполошное:
– Архаровцы сбесились!
Сам Архаров, не ведая о переполохе, сидел в это время в своем кабинете в палатах Рязанского подворья, а перед ним торчали трое. Двух из них, заломив им руки за спины, держали полицейские, третий в таких любезностях не нуждался, да и хватать его было опасно для мундира – как раз перемажешься о большой, когда-то белый холстяной, теперь серый от стирки и испещренный кровавыми пятнами фартук. Тут же сидел в углу канцелярист – ветеран, служивший со времен чуть ли не государя Петра Алексеевича, которого молодежь называла – старик Дементьев, и никак иначе, ласкательно же – старинушка, почтительно – старичина, а коли сотворит в бумагах смешную описку – потчевали неведомо откуда занесенным словечком «старбеня». Словцо байковского наречия «гиряк» почему-то в полицейской конторе не прижилось и к Дементьеву не применялось.
Возле архаровского стола стоял Тимофей Арсеньев. А на столе возле сдвинутых в сторону бумаг лежал кошель из вытертого бархата с остатками золотого шитья.
– Где же эти дармоеды запропали? – недовольно спросил Архаров Тимофея, спросил вполголоса, чтобы посторонние не расслышали. – Им уж давно быть пора.
– Я Максимку спосылал, – отвечал спокойный и рассудительный, как всегда, Тимофей.
– Далеко ли отсюда до «Татьянки»!
– Близко, – согласился Тимофей. – Да только воде не прикажешь – раньше срока не закипит.
Архаров недовольно фыркнул.
– Ваше сиятельство! – взвыл один из схваченных. – Да нет же ни в чем нашей вины! Деньги те мне дал тесть, и с кошелем вместе, просил по дороге зятю отнести! Мало ли что кому привидится!
– Ловко, – одобрил Архаров. – И знать, сколько в том кошеле денег, тебе неоткуда. Сразу видать подьячего!
О том, что в кабинет притащили именно площадного подьячего, из тех, что за гроши пишут прошения и «явочные», он знал с первого же взгляда: коротковатый обшмыганный кафтанишко, пальцы в чернилах, за ухом перо. Сидит такой бес при дверях присутственного места, мало чем краше побирушки, а копнешь – и в Замоскворечье у него домишко прикуплен, и в Ростокине землю огородникам в наем отдает, и, сказывали, хочет войти в долю к купцу Милютину, чья шелковая мануфактура всей Москве известна.
Тут за дверьми раздались возмущенные голоса. Тимофей тут же бросился отворять.
Явился Федька Савин, взъерошенный, потный, за ним Степан Канзафаров нес котелок с кипятком, гораздо меньше того, который опрокинулся. Следом сунулась было баба в сбившемся набок кокошнике, но кто-то перехватил ее, и Тимофей тут же захлопнул дверь.
– Ваша милость, стул надобен! – воззвал Федька.
– Ну? – спросил Архаров. – Мне за ним бежать?
Степан опустил котелок наземь, снял крышку и встал рядом на корточках, придерживая за край, чтобы посудина не опрокинулась. От котелка шел густой пар.
– Сойдет, – сказал Архаров. – Итак. Ты, Иван Семенов, при торговле держал зачем-то кошель с выручкой на видном месте.
– Так ваше ж сиятельство! – возопил Семенов – мужчина росту низкого, крепкий и румяный, с обстриженными в кружок смоляными волосами, даже при всем переполохе, связанном с воровством, сохранившими достойный вид – зачесанные на лоб гладкие короткие прядки. – Торговля у нас живая, кто же станет тухлое мясо брать? Как приносят молодцы с ледника, так тут же народ и разбирает, из рук рвут! Некогда деньги прятать!
– Стало быть, вы с приказчиком вели торговлю, а этот вот… – Архаров заглянул в бумагу. – Сказавшийся Фаддеем Крючковым, так?
– Так, ваше сиятельство! – подтвердил второй задержанный. – Крючковы мы, из мещан, пришел баранины во щи взять – хватают, бьют, на Лубянку волокут!
– Тихо! – весомо приказал Тимофей и показал кулак. – Недосуг ваши визги слушать.
– Давай экстракт, – велел Архаров.
– Экстракт таков: мясник Семенов утверждает, что пока Крючков ему голову морочил да мясо перебирал, подьячий Овчинников стянул кошель с выручкой и кинулся наутек. Семенов закричал, молодцы кинулись вдогон, успели схватить, а приказчик поймал Крючкова. И тут же всей ордой – на Лубянку.
– Ты, Семенов, говоришь, что кошель – твой, а ты, Овчинников, что – твоего тестя, – подытожил Архаров. – Ну, Господи благослови, сейчас правда и выплывет.
Он встал, развязал кошель, сделал два шага – и высыпал серебро с медью в котелок.
– Степан, помешай палкой, поставь на холод, – велел он Канзафарову. – Коли это твои, Овчинников, деньги, ничего с водой не сделается. А ты, Семенов, когда торговлю вел, засаленными пальцами за монеты хватался. Стало быть, коли деньги твои – то непременно жир наверх всплывет.
Крючков громко ахнул, подьячий разинул рот, а мясник грохнулся на колени.
– Батюшка ты наш! – воскликнул он. – Как же я сам-то не додумался! Век за тебя Бога молить буду!
– Моли, да впредь не будь вороной, – сказал ему Архаров. – Не уходи, пока вода не остынет. Федя, присмотри, чтобы все было честь по чести, а я к его сиятельству.
Выйдя из кабинета, он обнаружил у самых дверей торговку маслом, смиренно стоящую на коленях.
– Тебе чего, баба? – спросил он.
– Тележку, батюшка, твои архаровцы отняли, тележку!
Архаров медленно оглядел стоящих в коридоре подчиненных.
– Какая такая тележка?
– Это, ваша милость, Федор Игнатьич взял, чтобы котел с кипятком везти, – объяснил Максимка-попович.
– Ну так верните.
– Она в «Татьянке» осталась.
– Это как?
– Думали большой котел везти, потом решили, долго ждать, пока закипит, взяли маленький. Чтобы вашу милость ожиданием не утруждать, – сказал ловкий Максимка.
Архаров вздохнул, махнул рукой и пошел прочь. Баба вскочила, побежала следом, едва не кинулась в двери разом с обер-полицмейстером, кто-то успел удержать.
В карете его ждал секретарь Саша Коробов. Когда дверца распахнулась, он с неохотой закрыл толстую книжищу – явно какую-то невразумительную математику.
– К его сиятельству! – сказал кучеру Сеньке Архаров.
Тот знал – барин имел в виду московского градоначальника князя Волконского. И, дождавшись, пока Архаров заберется в экипаж, подстегнул лошадей – подстегнул уважительно, просто давая им понять – трогайтесь, милые, спешить некуда, все равно по московским улицам больно не разгонишься.
– Книгу купил? – спросил Архаров секретаря.
– Купил, только не знаю, Николай Петрович, угодил ли, – Саша достал из кожаного кармана на стенке экипажа французский томик.
– И что же это? Новинка?
– Сказывали, многие берут. Это «Влюбленный дьявол» господина Казота.
– Тьфу, не к ночи будь помянут! – вокликнул Архаров и перекрестился. – И это ты мне вздумал читать на сон грядущий?
– Сами же просили книжонку позанимательнее и на французском наречии. А сию многие хвалили.
– Бог с тобой, рискнем…
Архаров во многих вопросах пренебрегал мнением всего человечества и находил свои пути. Так обстояло дело и с изучением французского языка. Вместо того, чтобы нанять учителя да и твердить вместе с ним вокабулы, Архаров велел Саше купить книгу, чтобы читать ее вслух и тут же переводить на русский. За неимением Саши это мог делать и Клаварош. Способ, конечно, мудреный, но вообразить обер-полицмейстера с тетрадкой, полной неправильных глаголов, и трепещущего перед учительской розгой было бы еще диковиннее.
Взяв из Сашиных рук томик, Архаров посмотрел картинки и несколько удивился, увидев на одной выглядывавшую из разверстого облака верблюжью морду. Похоже, роман и впрямь был занимательный – не то что странствия из постели в постель пригожей поварихи Мартоны, про которую поведал миру господин Чулков.
Когда доехали до Воздвиженки, Саша остался в карете со своей преогромной арифметикой, или что он там читал с упоением, а Архаров с достоинством вошел в сени, где был встречен поклонами княжьей дворни.
Князь Волконский с супругой, Елизаветой Васильевной, ждали его в столовой – без него за стол не садились. Гостеприимная Елизавета Васильевна скучала по сыновьям – оба были в Санкт-Петербурге, при ней жила лишь дочь, предмет ее большой тревоги – Анне Михайловне уж исполнилось двадцать пять лет, давно пора быть замужем, и вроде бы удалось сговорить девицу за князя Голицына, однако пока не зазвенят колокола, сопровождая торжественный выход из храма новобрачных, сердце все будет не на месте – уж больно хорош собой князь, и не одна матушка рада бы заполучить в зятья недавно овдовевшего Голицына. Так что княгиня привечала Архарова не только в силу его должности, не только чтобы угодить мужу, видевшему в нем доброго товарища, не только по-матерински – он ей по годам в сыновья годился, – но и с тайной мыслью: коли не сладится с Голицыным, вот ведь тоже весьма достойный жених…
Может статься, и сама княжна, при всей ее сердечной склонности к красавцу Голицыну, разумно глядела на жизнь и потому вышля к гостю в прелестном платье, серебристо-сером с розовой отделкой и розовыми же бантами, в изящной наколке на высокой прическе. Прическа эта Архарова несколько смутила – волосы надо лбом поднимались на добрых три вершка. Таким образом княжне невольно делалась почти одного с ним роста, а Архаров, как многие кавалеры, полагал, что на женщину должно смотреть сверху вниз.
На сей раз гостя потчевали не только разносолами, но и частными письмами из столицы – их с курьерской почтой доставили несколько, в том числе долгожданные – родственницы на разные лады докладывали про бракосочетание цесаревича Павла. Ради новостей Архаров, собственно, и приехал. Как и положено в женской болтовне, лукавство и небрежная язвительность никого не щадили, мимоходом раскрывая государственные тайны и словно бы не придавая громким именам ни малейшего значения.
– «А сказывали, по дороге за принцессой младший Разумовский весьма волочился и тем всю свиту сильно обеспокоил, – читала вслух княгиня Волконская, мало беспокоясь, что незмужняя дочь слушает про такие проказы. – И из того жалкую участь для мужа прелестницы предвидят, ибо сей в сравнении с Разумовским…»
Анна Михайловна, сидя на канапе с девичьим рукодельем (не чулок вязала, Боже упаси, а работала иголочкой с тонкой ниточкой шитое кружево), мечтательно улыбалась – Разумовского она помнила по Санкт-Петербургу, кавалер был отменный, принцессе Вильгельмине с самого начала замужества повезло с махателем – все же знают каков купидон ее нареченный жених, ныне – уже супруг Павел Петрович.
– Будет тебе, сударыня, – прервал супругу Волконский. – Ты бабьи домыслы пропускай, ты дело говори.
Он, помня давние порядки, не хотел даже слушать о том, что красавчик и бойкий кавалер Андрей Разумовский ухлестывал за невестой наследника Павла Петровича, коли вдуматься – за будущей российской императрицей. Чем менее знаешь про такие шалости – тем лучше. Мало ли было случаев, когда болтуна, всего лишь намекнувшего на амурные дела той или иной государыни, учили уму-разуму на дыбе…
Дальше Елизавета Васильевна читала исключительно трогательные и благопристойные фразы – про то, как Павел Петрович из трех дочерей герцогини Дармштадской, коих матушка привезла в Россию, влюбился с первого взгляда именно в Вильгельмину, которая и была назначена государыней Екатериной ему в невесты. И про то, как 29 сентября праздновали свадьбу Вильгельмины, принявшей православное имя Натальи Алексеевны, с цесаревичем Павлом Петровичем, и в каком платье изволила быть государыня – в русском, из атласа, расшитом жемчугами, и в мантии, опушенной горностаем, и про свадебный обед в тронном зале Зимнего дворца, и…
В описании свадьбы явилось нечто, заставившее Елизавету Васильевну вдруг замолчать и покоситься на мужа, как бы спрашивая дозволения.
– Ну, что там еще за шашни? – спросил князь.
– «К концу брачных торжеств стало ведомо о разбойнике, появившемся в Оренбургской губернии, и что велит себя звать государем Петром Федоровичем…» – прочитала княгиня.
Архаров и Волконский переглянулись – ничего себе подарочек!
Им даже незачем было обмениваться мнением по сему поводу – они и так знали, что оба думают об одном и том же.
Непременно в тот же день новобрачный Павел Петрович, услышав новость, стал приставать к ближним, и к графу Панину главным образом, с вечным своим вопросом: точно ли они убеждены, что его отец, покойный государь Петр Федорович мертв? В могиле? Не под замком в дальнем монастыре? Откуда при желании можно утечь хоть в оренбургские, хоть в какие иные степи?..
И у него имелись немалые основания для таких вопросов.
Во время «шелковой революции» Павлу было неполных восемь лет. Мальчику мало что растолковали – он только понял, что больше у него нет отца, но в смерть бывшего императора Петра Федоровича верить не желал. Мать, сменившая отца на престоле, была слишком занята делами государственными. И, как известно, умершего любить проще, чем живых, – умерший уже не понаделает роковых ошибок…
Позднее Павел Петрович стал потихоньку выяснять обстоятельства отцовской кончины.
Получалось так, что свидетели оной кончины – исключительно друзья, приятели, сторонники, а не исключено, что и любовники его матери.
Когда Екатерина, убежденная, что промедление смерти подобно, примчалась из Петергофа, где жила отдельно от мужа, в Санкт-Петербург и, выскочив из кареты возле казарм Измайловского полка, сказала сбежавшимся солдатам и офицерам, что супруг-император приказал убить ее с сыном, что убийцы скачут по пятам, сам Петр Федорович находился в Ораниенбауме с верными ему голштинцами. Он много куда мог уйти, но, узнав про восстание гвардейских полков, заметался, а пока маялся нерешительностью – обнаружил, что все пути перекрыты. Тогда он сочинил отречение от престола и отправил его мятежной супруге. Далее – был арестован и отвезен в Петергоф. Там, рыдая, ждал решения своей участи. Одну из его просьб Екатерина исполнила – Петра Федоровича отвезли в Ропшу, его имение, подаренное покойной тетушкой Елизаветой Петровной.
И далее все выглядело весьма сомнительно.
Охранять низложенного российского императора был приставлен брат новоявленного фаворита Екатерины, Алехан Орлов. Никого к пленнику не пускали, и проверить, точно ли он от волнений расхворался, как докладывали государыне, совершенно невозможно. Петр писал супруге записки по-французски и просился в Германию.
Павлу Петровичу рассказали, что Алехан доподлинно слал донесения о крепчающей хворобе Петра Федоровича, но рассказывали с ухмылкой – как если бы решительный Алехан, вздумав освободить государыню от того, кого называл не иначе, как уродом, понемногу готовил и ее, и весь двор к этому событию. И, сообщая, что объявленной причиной смерти императора были геммороидальные колики, всем видом давали понять – ложь, ложь, ложь!
Отравлен или удавлен – вот что старались донести до юного царевича втихомолку фрондирующие царедворцы. Но мертвого тела с признаками ужасной смерти никто из них не видел.
Нашелся кто-то поумнее прочих, растолковал, что скоропостижная смерть супруга была страх как невыгодна государыне в первые дни ее правления. И тем зародил надежду…
Коли отец жив, но надежно упрятан, он ведь может вернуться и прийти на помощь единственному своему сыну! Ведь по всем законам божеским и человеческим Екатерина, приняв на себя правление страной до возмужания сына, должна была уступить ему престол. А вот не уступала же. И про это добрые люди осторожненько нашептали – так, легчайшими намеками…
Павлу Петровичу только позабыли сказать, что Петр Федорович никогда не считал его своим сыном и вслух недоумевал, откуда у великой княгини берутся вдруг и беременности, и дети.
Сейчас, в девятнадцать лет, наследник российского престола все еще ждал чуда.
Неудивительно, что оно ему вновь примерещилось.
Обменявшись взглядами, Волконский и Архаров разом вздохнули. Но обсуждать положение не стали, а дослушали до конца письмо со всеми поклонами и нежностями. Затем отдали должное разносолам.
После чего Архаров засобирался домой. Но уже в карете понял, что на Пречистенку не хочет, и велел Сеньке ехать, куда его душенька пожелает. Саша обрадовался и попросил довезти его до Варварки – там у него в Псковском переулке жил приятель-студент, такой же страстный книжник, так чтобы забрать у него какие-то драгоценные фолианты.
Поехали на Варварку… на Варварку, куда Архаров сам бы не отправился, однако был даже благодарен Саше – потому что Варварка уже хранила некие воспоминания.
Архаров чувствовал, что все в мире повторяется. Уже была в его жизни московская осень, исполненная тревоги и одиночества, чумная осень семьдесят первого. Два года прошло – и снова полетела над Москвой первая желтая влажная листва, прилипая к стенкам экипажей, к конским бокам, к мундирам, к дамским платьям и душегреям мещанок, к бархатным кафтанам и домотканым армякам.
Он еще не видел разумного повода для беспокойства. Где оренбургская степь и где Москва? Но его вышколенная подозрительность, когда нужно было, отметала доводы разума. Вечно всем недовольная Москва, казалось, только и ждала, чтобы объявился какой-либо возмутитель спокойствия. Тут собрались многие, сочувствующие Павлу Петровичу и не понимающие, как возможно, чтобы государыня Екатерина не уступила трон законному его владетелю. Волконский ворчал, что всякий приезд в Москву графа Панина, воспитателя наследника, чреват тайными сговорами, и может статься, что именно тут, а не в Санкт-Петербурге, уже выношен комплот, ставящий целью устранение государыни и возведение на престол ее сына. Вот и недавно, когда Панин изволил в сентябре посетить свое подмосковное село Михалково, князь нарочно просил у Архарова людей для наблюдения за ним, и тут уж не обошлось без Шварца – он сам взялся за это дело, испросив всего лишь полсотни рублей. Кого он подослал в Михалково – князь Волконский так и не дознался, однако сведения оттуда шли исправно, а на расспросы Архарова осторожный немец отвечал одно: чем менее народу знает о его тайных лазутчиках, тем лучше.
Кем бы ни был тот степной бунтовщик, а одним своим появлением он уже мог доставить беспокойному городу немалое удовольствие. Так понимал Архаров, и эта особенность Москвы нравилась ему все менее и менее. Многие из тех, кто весело и с издевкой кажут кукиш в кармане самой государыне, о подлинном бунте не помышляют, им довольно речей. Но они вполне способны поднять такой шум, что иные люди, одурев от него, могут и затеять недоброе.
К тому же, у Архарова было свое понимание справедливости – отнюдь не такое, как у Шварца, навещавшего Салтичиху, более узкое – и, в отличие от Шварцева понимания, не подпираемое высокоумными рассуждениями.
Архаров получил свою должность благодаря графу, а ныне – князю Орлову. Хотя Григорий Орлов уже не был признанным фаворитом, однако братья сохранили немалое влияние, особливо – умница Алехан, кстати говоря, из всех Орловых именно он был любимцем Москвы. И Волконский тоже должностью московского градоначальника был обязан Григорию Орлову. Они вдвоем, Волконский и Архаров, неплохо с этим городом управлялись – вон, и Варварка вся уж в фонарях, и переулки. Было бы несправедливо, коли из-за очередной петербургской революции Москву лишили бы двух таких рачительных хозяев.
А той чумной осенью и те немногие фонари, что остались целы, не горели…
Архаров не желал вспоминать про особняк во Псковском переулке – но вон же он, особняк Ховриных, стоит, ничего ему не делается! И во втором жилье – окна той самой парадной гостиной, где на возвышении стоят клавикорды, вот только музыки не слышно, нет тут более музыки… но где-то же есть?..
Саша вернулся в карету, обремененный двумя томами, и тогда уж покатили на Пречистенку. На смутное настроение обер-полицмейстера вечный студент не обратил внимания – да и кто когда видел эту тяжелую физиономию с нехорошим прищуром радостной? К ней притерпелись, как притерпелись к тяжелой поступи Архарова, к его внезапной мелкой коротконогой побежке, к неожиданному громкому хохоту, к вспышкам подозрительности. Все то, что при первой встрече смущало новых архаровских знакомцев, его домочадцы и буйный гарнизон Рязанского подворья за два года научились в упор не видеть.
Два дня спустя Волконский получил из Санкт-Петербурга, среди важных бумаг, нечто, прилагаемое к тревожному сообщению из-под Оренбурга в качестве курьеза – причем указывалось, что сие – не оригинал, но верный список с сохранением всех нелепиц оригинала. Он прочитал курьез и послал его с человеком в полицейскую контору, приложив краткую записку. Архарову следовало тоже знать про сей краткий, но сильнодействующий документ.
Архаров же как раз был в кабинете, беседовал со Шварцем. Туда призвали Устина, Абросимова, Тимофея, а Демка с Федькой проскочили без приглашения.
– Читай, – велел Устину Архаров, дав почему-то сперва курьез.
И тот забубнил нараспев и довольно внятно – за невнятицу Архаров однажды крепко его выругал и посулил батогов.
– Самодержавного амператора, нашего великаго государя Петра Федоровича всероссийского: и прочая, и прочая, и прочая… – прочитал Устин и недоуменно поглядел на обер-полицмейстера.
– Читай, читай!
– «Во имянном моем указе изображено яицкому войску: как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и оцы ваши»…
Устин замолчал.
– Ты чего это? – спросил Архаров.
– Так помер же великий государь…
– Полагаешь, послание – с того света? Не бойся, вполне с этого, – утешил Архаров.
– И ошибок полно, в словах букв недостает…
– Читай, не рассуждай!
– «… так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу, – тщательно выговаривая ошибки, прочитал Устин. – Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых. Будити мною, великим государям, жалованы: казаки и калмыки и татары. И каторые мне, государю императорскому величеству Петру Феравичу, винныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершин и до усья, и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и хлебныим правиянтам. Я, велики государь амператор, жалую вас Петр Федаравич…»
– Все, что ли? – спросил Архаров.
– Писано в тысяча семьсот семьдесят третьего году сентября семнадцатого числа, – сказал Устин.
– Экая филькина грамота, – заметил Демка. – Рекою жалует, а которой – не сказал. Этак и я кого хошь болотом пожалую.
Архаров усмехнулся, что было понято подчиненными как разрешение обсуждать филькину грамоту.
– Это доподлинный манифест, – сказал Шварц.