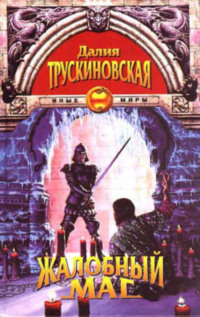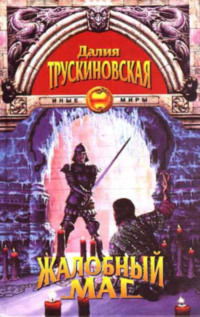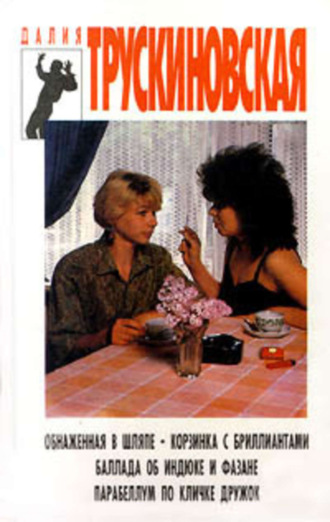
Полная версия
Баллада об индюке и фазане

Далия Трускиновская
Баллада об индюке и фазане
Утро было ужасное.
Прежде всего, это было зимнее утро, а я терпеть не могу зиму. Точнее – мартовское. Но весной еще и не пахло.
Примерно в половине одиннадцатого я слонялась по комнате в длинном зимнем халате и время от времени относила в кухонный мусорник то подобранный на полу окурок, то пробку от винной бутылки. Попадалась и добыча покрупнее. Так, сопровождаемый ироническим взглядом, в мусорник канул носовой платок в крупную сиреневую клетку. Потом туда же был отправлен почти новый импортный блокнот с полуголой девицей на обложке. И, наконец, я без сожаления выпустила из пальцев флакон духов, в котором оставалось еще больше половины.
Из этого не следовало, что моя комната блистала чистотой и лишь флакон с платком вносили беспорядок. Совсем даже напротив. Но мне сейчас было важно избавиться именно от них, а тогда я бы почувствовала себя в раю даже посреди городской свалки, хотя обычно я порядок соблюдаю. Дома приучили.
Словом, мусорник наполнялся, а душа очищалась.
Время от времени я присаживалась на подоконник и глядела вниз. В глубине двора играли дети. Под моим окном, на дорожке, не играл никто. И не проходил тоже. Я видела, прижавшись горячим лбом к стеклу, только утоптанный снег и ничего больше, ни бумажки, ни веточки.
И еще застрявшую на березовых ветках «Литературную газету». Ветер чуть колыхал ее.
Итак, было около половины одиннадцатого, когда в дверь позвонили.
Я задумалась – открывать или нет?
Дело в том, что квартира у нас коммунальная, четыре семьи, включая меня. Но считать себя семьей я никак не могла, особенно этим утром. Так что в итоге получалось – три семьи без меня.
В это время все взрослые на работе, все дети в садиках и школах, все престарелые в магазинах и поликлиниках. Болеть вроде никто не болел, кроме меня. Но ко мне врач ужб приходил. Так что звонил человек, явно не знакомый с обычаями квартиры, не почтальонша и не дворник. Остается – заблудший гость или же милиция.
Заблудшему гостю открывать не стоило. А милиции… Да, пожалуй, после вчерашних событий я могла заинтересовать это учреждение… или, скорее, врача-психиатра…
Это мог быть и еще кто-то! Тот, кому я не успела сказать еще парочку ласковых слов. А за бессонную ночь и нелепое утро мне их в голову пришло немало, и все, как на подбор, были великолепны по тонкости и ядовитости.
В общем, я пошла открывать дверь.
На пороге стоял мужчина.
Он был в короткой шубе из искусственного меха. И мне эта коричневая шуба сразу не понравилась. Может быть, тем, что недавно я видела такие шубы в магазине уцененных товаров. А уважать вещь из такого магазина я никак не могу. Сама-то я искала там старомодные огромные пуговицы, которые, к огромному своему изумлению, обнаружила в английском модном каталоге.
– Здравствуйте, – сказал мужчина. – Я из угрозыска. Званцев моя фамилия. Пройти можно?
– Проходите, товарищ Званцев, – растерянно сказала я. – Только угрозыска мне сегодня и недоставало…
– Извините, что побеспокоил, – он развалисто шел за мной по коридору и говорил в спину. – Я уже был здесь рано утром, постучал к вам в двери…
Тут Званцев налетел на холодильник. Я испуганно обернулась. Холодильник покачнулся, но устоял, а я отметила неповоротливость гостя.
– Извините, – сказал Званцев, судя по взгляду – не мне, а холодильнику. – Я к вам стучал, но вы не ответили. Ваши соседи сказали, что вы очень поздно легли и вообще, кажется, заболели. Я решил зайти попозже. Все равно я был в ваших краях.
– Бюллетень на телевизоре, – довольно-таки сварливо ответила я, пропуская его в комнату. – И не стоило ради меня приносить такие жертвы. Раз уж вы переполошили всю квартиру, могли и меня разбудить. Я все равно слышала сквозь сон какой-то шум.
Видимо, Званцев приходил около восьми – тогда я действительно повалилась на разворошенную тахту и отключилась на полтора часа.
А сейчас он стоял посреди комнаты в своей жуткой шубе и хоть бы догадался шапку снять! Мне очень хотелось стащить с него эту шапку и выбросить в окно. Зная за собой такую способность, я усилием воли сдержалась.
– Ну, я же знал, что буду в вашем районе до обеда. К тому же у меня осталось еще несколько квартир неохваченных.
Я молчала. Званцев переступил с ноги на ногу, покачнувшись при этом. Я заинтересованно пригляделась – нет, трезв, только чем-то крепко ошарашен.
– Чем могу быть полезна? – как можно официальное спросила я.
– А вот чем…
Он помолчал, видимо, формулируя вопрос поточнее.
– Видите ли, я уже говорил с вашими соседями…
– Ну и что же?
– Они сказали, что у вас допоздна слышались голоса…
– Чьи голоса? – сурово поинтересовалась я.
– Ваши голоса.
– Да? Впервые слышу, что у меня их несколько.
– То есть вашего мужа. И ваш. Ваш и его. Ну, мужа.
Нетрудно было догадаться, как ему соседи охарактеризовали Бориса. Мялись, жались, отводили глаза и выкручивали экивоки в надежде на понятливость Званцева. Формулировка «муж» явно была его изготовления.
– Деликатность соседей меня радует, – невозмутимо ответила я. – Мне почему-то казалось, что они считают этого деятеля моим любовником.
Званцев ошалело на меня уставился.
– Позволю себе заметить, что я пришел совсем по другому вопросу, – наконец опомнился он. Эта непозволительно вежливая фраза у него прозвучала тяжеловесно и просто отвратительно. – Ваши соседи сказали мне, что вы поздно легли. Но дело не в этом. Ваше окно выходит во двор. Я это выяснил сразу. Не исключено, что вы примерно в два часа ночи стояли у окна и кое-что видели.
Он переступил с левой ноги на правую, а потом с правой на левую, дважды покачнувшись при этом. Я попробовала прикинуть амплитуду, и получилось никак не меньше пятнадцати градусов. В нашей беседе возникла пауза.
– Ну, предположим, не только мои окна… – сказала я, чтобы хоть что-нибудь прозвучало.
– Конечно. Остальных я почти всех обошел. Вы последняя остались. Я ведь этим с семи утра занимаюсь. На мою долю пришлось пятьдесят две квартиры.
– В нашем доме столько не наберется.
– Во двор выходят еще пять домов. Мы все проверили.
– И что же я могла видеть в два часа ночи? Честно говоря, мне даже стало любопытно. И это радовало, потому что после такой ночи обнаружить в себе щенячье любопытство – праздник. Значит, есть еще порох в пороховницах.
Он подошел к окну, я – за ним. Двор у нас – не приведи Господь. Но таким он был не всегда. Раньше в глубине нашего квартала стояли несколько деревянных домишек, каждый со своим двориком, палисадничком, а может, и огородиком. Снаружи, глядя на доходные дома, построенные в начале века, трудно было догадаться, что внутри – настоящая деревня. Хотя я видела в самом центре Риги еще два-три таких квартала. И там точно так же в мае цвели вишни, в июне – сирень, а осенью – георгины и астры.
Но вдруг за каких-то полтора месяца эти симпатичные домишки посносили, собираясь строить что-то эпохальное. Даже завезли какие-то трубы диаметром метра в полтора. Но тут наступила зима, и строители исчезли. Надо думать, вымерзли.
Итак, мы со Званцевым молча таращились на огромное, кое-как расчищенное пространство со всевозможными закоулками, в которое можно было проникнуть через восемь дверей и семь подворотен.
Обитатели двора, приспосабливаясь к новым условиям, протоптали несколько троп. Это были вполне официальные магистрали, по которым можно было, не огибая весь квартал, попасть на троллейбусную и трамвайную остановки, а также в магазины и химчистку. Тропы петляли вокруг труб и уцелевших развалин. Несколько из них было «взрослых» – максимально спрямленных, от подворотни к подворотне, посыпанных песочком, чтобы в седьмом часу утра, в неверном свете от окон, не поскользнуться на бегу, спеша на работу. «Детские» тропы исчезали в развалинах. А еще одна тропинка была собственностью местных алкоголиков. Во всяком случае, их я чаще всего наблюдала на этой тропинке, проходившей как раз под моим окном. Она ответвлялась от «химической» тропы и вела в наш подъезд, напротив которого – вино-водочный магазин.
– Вон там, видите, дверь? Званцев имел в виду дверь, от которой начиналась «химическая» тропа.
– Ну, вижу.
– На другой стороне улицы напротив нее – подворотня…
– Напротив – химчистка, а подворотня левее…
Элегантные следователи, сверкающие интеллектом с экранов, покраснели бы со стыда за этого растяпу. Мало того, что он находится в жилом помещении, не сняв шапки, мало того, что, с семи до одиннадцати слоняясь вокруг квартала, не усек, что и как расположено, так он же еще и опять принялся переступать с ноги на ногу, качаясь при этом, как в шторм на палубе!
– Может быть, – согласился Званцев. – Так вот, в этой подворотне стоит машина.
– Очень может быть. Отсюда, знаете ли, не видно.
– Она там стоит. – И Званцев покосился на меня, соображая, неужели я действительно осмелилась съязвить в беседе с представителем угрозыска. Но что еще я могла ему ответить? Я действительно не могла разглядеть машину сквозь стены шестиэтажного дома.
– Это «жигуль», вишневый, – продолжал, помолчав, Званцев. – Может, замечали его там раньше? Нет? Ну, это неважно. Примерно в два часа ночи от него отошел человек, вошел в подъезд напротив, пересек ваш двор и скрылся.
– И это все?
– Все, что мы пока знаем, О том, что он вошел в подъезд, сказала женщина, которая там живет на первом этаже. Она ждала дочь с какого-то праздника, не спала, услышала шаги, выглянула в дверь, мало ли чего, и увидела этого человека. Он вошел с улицы и вышел во двор. Она увидела только его спину, мелькнувшую в дверях. Даже не заметила, во что он был одет. То ли в темную длинную куртку, то ли в пальто. И роста не заметила – там ступеньки, трудно сообразить. Вот… Это все, что мы пока знаем.
– Боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Я решительно ничего не видела.
– А ваш муж?
Очень захотелось выставить Званцева из комнаты. На то, чтоб сказать «друг», у него, видимо, ума не хватило.
– Он тоже. Да мы и не могли бы никого увидеть.
– Почему же?
– Потому что у меня, как и у всех нормальных людей, зимой закрыты окна.
– Но ведь стекла-то у вас, надеюсь, прозрачные?
Он еще иронизировал! Но срезала я его красиво.
– Вот именно поэтому. Если из освещенной комнаты ночью выглянуть на темную улицу, то прозрачные окна окажутся зеркалом и вы увидите только собственное отражение.
– Действительно… Но люди часто приоткрывают окна.
– Форточку, хотите вы сказать? Но я не такая высокая, чтобы высунуться в нее без помощи стула. А взгромоздиться в два часа ночи на стул ради того, чтобы высунуться в форточку и полюбоваться пустым двором – понимаете, это несколько странно…
– А приоткрыть окно, чтобы покурить возле него?
– Я не курю, – соврала я.
– Однако же кто-то курил у окна, – Званцев показал на пепельницу с остатками пепла, стоявшую на подоконнике.
– Вынуждена покаяться в небольшом грехе, – ледяным голосом сообщила я. – Мне было лень тащить ночью пепельницу на кухню, к тому же беспокоить соседей не хотелось, и я выбросила окурки в окно. Надеюсь, вы не донесете на меня нашей дворничихе?
– Но неужели вы с мужем хотя бы несколько минут не постояли у окна?
Я не сразу сообразила, при чем тут несуществующий муж. А когда поняла и представила себе, как женщина стоит, прислонившись к плечу своего мужчины, лаская пальцами это литое плечо и прячась за ним от холодной струи воздуха из полуоткрытого окна… Это было невыносимо!
Злость, холодная злость – вот в чем сейчас мое спасение. Только она не даст мне зареветь самым дурацким образом – да еще ткнувшись, быть может, в не менее дурацкую уцененную шубу! Злость и атака!
– По-вашему, у окна можно только курить? – задиристо спросила я. – По-вашему, мужчина и женщина наедине главным образом курят? По-моему, им есть чем занять себя и без никотина. И начинают они с того, что целуют друг друга… Не перебивайте меня, товарищ Званцев, я еще не все сказала, и вам эта информация когда-нибудь в жизни пригодится.
– Но раз вы целовались у приоткрытого окна, то могли хоть что-то видеть? – эта размазня, кажется, стала терять терпение. Он качнулся, на этот раз трижды, и это было скорее уж нервное дерганье.
– Простите, я все-таки закончу свою мысль, – в отличие от Званцева, я умела пользоваться сверхвежливыми формулировками. – Так вот, когда мужчина и женщина целуют друг друга, они обычно закрывают глаза. Даже если в это время за окном происходит что-то уголовное. Надеюсь, вы понимаете, что все претензии в данном случае – к физиологии человеческого организма?
– А вы, надеюсь, понимаете, что такое – дача свидетельских показаний? – как можно строже спросил он.
– Если бы речь шла о свидетельских показаниях! Но я не могу быть свидетелем, потому что ровно никого и ничего не видела в два часа ночи. И мой муж тоже. Странно требовать от человека, чтобы он в два часа ночи торчал у окна и ожидал каких-то событий. Так что моя совесть чиста.
– В таком случае простите, что побеспокоил.
– Мелочи, – сказала я. – Работа у вас такая – людей беспокоить. И больных в том числе. Извините, что ничем не смогла помочь.
С тем я его и выпроводила, держась на стиснутых зубах и сжатых до судороги кулаках.
Вернулась я в комнату с той мыслью, что теперь не только можно, но даже и нужно расслабиться и выплакаться. Я даже села для этого на тахту и устроилась поудобнее. Но что-то совсем не плакалось.
Окаянный Званцев душу-то разбередил, а до спасительного и облегчающего взрыва не довел. Даже на это его бестолковости не хватило. Одно слово – размазня. А ведь должно было произойти что-то такое, чтобы я наконец разревелась и утихомирилась, а все то муторное, что сейчас сидело во мне, выплакалось навсегда.
Что касается Званцева, моя совесть в принципе была чиста.
Я действительно никого не видела из окна в два часа ночи.
Званцева интересовало именно это, и я дала исчерпывающий ответ. Да, окно открывала, вот и след на усыпавшем подоконник снегу. Да, выбрасывала… Да, никого не видела…
А остальное…
Остальное его совершенно не касается.
Остальное – факт моей личной биографии. И ничего больше.
***Значит, сидела я на тахте и думала, как жить дальше, а в коридоре тем временем застучала палка бабки Межабеле. Сама бабка ходила довольно тихо, но вот палку себе подобрала внушительную. Я подумала, что надо бы выползти на кухню и спросить, чем закончился поход в поликлинику. Все-таки бабка в простудные дни всегда меня отпаивала травами.
Когда я подошла к двери, она без всякого стука резко распахнулась, н я чуть не схлопотала по лбу.
На пороге стояла Кузина.
И я поняла, что выплакаться по сегодняшнему поводу не сумею уже никогда. Более того – я через полчаса буду громко хохотать. А то муторное, от которого я хочу избавиться, застрянет во мне на неопределенное время.
Кузина – моя троюродная сестра. В далеком детстве, обнаружив, что по французской терминологии мы являемся кузинами, мы с ней взяли это словечко на вооружение. И до сих пор не можем от него избавиться. Более того – каждого, с кем Кузина вдруг около полуночи заваливается ко мне в гости, я автоматически называю Кузеном, не очень допытываясь насчет настоящего имени. Кузина смеется. Кузен не возражает, и все довольны.
На сей раз Кузина была одна. Видимо, она вошла вместе с бабкой Межабеле.
– Привет, хвороба! – сказала Кузина. – Чего не звонишь?
Я собралась с силами.
– Поздравь меня! – гордо ответила я. – Наконец-то я вырвалась на свободу.
– Что-то я не припомню, чтобы ты собиралась на свободу, – недоверчиво ответила Кузина. – Ты еще неделю назад была довольна своим положением. А если точнее?
– Тебя интересуют факты?
– Они самые. Потому что твое внутреннее состояние мне уже надоело.
О том, что ее внутреннее состояние надоедало мне уже сто раз, при очередной склоке с очередным Кузеном, она и не задумывалась.
– Погоди, я лягу, накроюсь, и будут тебе факты.
Я так и сделала. Кузина сняла пальто, отмотала шарф, кинула их на стул и села у меня в ногах.
– Значит, так. Вчера приходил Борис. Тут я сделала паузу, потому что не видела достаточного интереса на лице родственницы.
– Ну, пришел Борис и… Он что, прощаться приходил?
– Ты сама знаешь, зачем он приходил! – рассердилась я. Кузина могла быть и поделикатнее. Прощаться! Вот согласись я с ней сейчас, что он приходил прощаться, – и с каким азартом она примется мне объяснять, что он за скотина, не стоящая моего мизинца! А в глубине души, пожалуй, будет убеждена, что все справедливо, сколько же может длиться роман с женатым человеком? А виновата я, что ли, что он женатый?
Конечно, рано или поздно прощаться бы пришлось. Я это знала с самого начала. Но вся вчерашняя катавасия разыгралась совсем не из-за этого. И только теперь я задала себе вопрос – в самом деле, из-за чего же? Ведь никакого веского повода для нее не было!
Я стала соображать, а одновременно мне приходилось излагать Кузине факты.
Факты же были таковы.
Если преступник, за которым гонялся Званцев, пробегал по нашему двору в без пятнадцати два ночи, – а пробежать двор, даже по скользкому снегу, он мог минуты за полторы максимум, – то он мог видеть следующую картину. Одно из немногих освещенных окон распахнулось, и из него вылетели импортный журнал и мужской вязаный жилет. Следующим выпорхнул элегантный пиджак, очень гармонирующий с жилетом. Потом пестрой стайкой – всякая мелочь: пакетик анальгина, коробка сигарет, зажигалка и так далее.
Без десяти два выскочил мужчина в накинутой дубленке – если преступник задержался из любопытства, ожидая, не выкинут ли тем же порядком хозяина пиджака, то он мог видеть, как высокий мужчина в дубленке на голос тело ползает по снегу, собирая свое имущество. Ему удалось подобрать все, потому что свет из окна падал на утоптанную дорожку, а там и валялись вещи, я сама видела это в окно. Он унес всю охапку в дом. А минут через десять вышеуказанный мужчина покинул вышеназванный дом навеки.
Кузина пришла в бешеный восторг. Ей особенно понравилось, что я пошвыряла в окно Борисовы тряпочки без всяких объяснений.
А какие тут могли быть объяснения?
Я сидела в кресле в одном халате и смотрела, как он одевается. Его время истекло, и я знала уже полгода назад, что оно истечет часам к двум. Борис никогда не оставался ночевать. И я не уверена, хотела ли вчера, чтобы он остался. Если бы хотела – тогда другое дело. Тогда – проще.
Странное чувство тревожило меня – обычно я считала, что он одевается быстро, а сегодня видела, что он одевается торопливо. Разница немалая. И еще я думала о том, что в такие минуты мы почему-то всегда молчим, как будто совсем уж нечего сказать друг другу, хотя бы про погоду, про троллейбус, про соседей, ну, я не знаю, про что еще!
– Ты с ума сошла! – тем временем восхищалась Кузина.
– Наверно, – с великолепной гордостью говорила я. – Я вдруг поняла совершенно отчетливо, что если сию же минуту не избавлюсь от этого человека и всех его манаток, я умру или действительно сойду с ума. Понимаешь, самое жуткое было – как методически выбрасывала в окно вещи. И озиралась, не забыла ли чего. Я даже газету выбросила.
– Какую газету? – вытаращив глаза, спросила Кузина, и на ее лице крупными буквами написалась зависть: ах, почему не она так царственно избавляется от надоевшего любовника? Р-раз – и в окошко!
– «Литературную». Он привез ее с собой и положил на пол возле тахты. Наверно, приберег на закуску.
Кузина не поленилась встать и выглянуть в окно.
– Разве что воронам на закуску.
– Тем хуже для ворон!
Кузина выпытывала комические подробности, и я на ходу яростно сочиняла их. Даже хохотала сама при этом.
Но совершенно ничего смешного не было в том, что Борис скучным голосом спросил, где его часы, а я ответила, что на телевизоре, почему-то именно туда я складываю вещи, которые не стоит забывать или терять.
– Ну, когда теперь нагрянешь? – спросила я, пока он застегивал браслет, и удивилась собственному голосу. Обычно я старалась придать этой привычной фразе этакую независимость с оттенком небрежной нежности. Так и получалось. А сегодня в ней прозвучала такая явственная неприязнь, что мне стало не по себе.
– Не знаю, звездочка.
– А если точнее?
– Ну ты же понимаешь…
Разумеется, я понимала, что имею дело с почтенным женатым человеком, на восемь лет старше меня, что я могу себе позволить, чтобы ветер в голове окурки гонял, а у него определенные обязательства и так далее.
Он мне ничего не обещал – это верно, ни разу не заходила речь о браке – это так. Я, со своей стороны, никогда не собиралась привязывать его ребенком. Словом, это был роман, каких я наблюдала вокруг великое множество. Все мои незамужние подруги считали делом чести завести и поддерживать хотя бы такой необременительный роман, без обязательств и прав. Что бы ты, голубушка, ни чувствовала на самом деле к герою этого романа, хотя бы страсть, достойную шекспировской героини, изволь соблюдать правила игры.
Я и соблюдала эти правила, уверенная, что таким самоотречением доказываю себе силу собственной страсти. И, видимо, неплохо доказывала, раз меня хватило на целый год конспирации и полуторачасовых встреч. Впрочем, самоотречение было в чем-то даже удобно – роман оставлял прорву свободного времени, и я тратила его с пользой, сдала кандминимум и готовилась в аспирантуру.
Но тогда, в половине второго ночи, все оказалось не так.
Его любимое, тонкое, умное лицо вдруг показалось мне неприятным. Я поняла, что виноват пульсирующий свет ночника, затевающий самую странную игру теней на лице. Но сознание причины вспыхнуло и исчезло, а ощущение осталось.
И то, как он объяснил свой неожиданный приезд – побегом со второго отделения концерта в оперном театре, завершившего длиннейшее торжественное заседание, – меня не развеселило, и я не подумала, что вот ведь, пользуется каждым удобным случаем, чтобы примчаться ко мне! Наоборот. Я представила себе, что жена спросит его насчет программы концерта, она ведь у него дама светская, посещающая решительно все, на что продаются билеты. И он, привычный к этим стереотипным концертам, назовет ведущую балетную пару театра, трех-четырех оперных солистов, насчет камерного хора скажет, что забыл название, но исполняли что-то средневековое… А потом он заскочил к Колеватову, который по случаю рождения двойни принимает гостей только после полуночи, отдал ему его автопортрет, а заодно выпил чаю.
Кузина хохотала.
– Нет, ты и одежду выбросила? Ой, не могу! Представляю себе! Ты просто ненормальная!
Судя по восторгу в голосе, это был комплимент.
– Не всю, конечно. А носки – выбросила. Они валялись рядом с «Литературкой».
– То-то был бы номер, если бы он не нашел носков!
– Нашел. Этот сукин сын все подобрал.
– Да, он у тебя такой. Аккуратный. Кузина никогда не симпатизировала Борису. И не потому, что женатый. Мы просто кое-что знали о его служебной биографии. Не последнюю роль в ней сыграла выгодная женитьба, после которой Борис, истинная дворняжка среди породистых научных и околонаучных деятелей, вдруг резко пошел в гору.
Это возмущало Кузину. Я сперва старалась этого не замечать и не думать на эту тему.
И то, что Кузина назвала Бориса аккуратным, тоже было издевкой. Борис пользовался любой возможностью, чтобы насвинячить в комнате, все раскидать, обсыпать сигаретным пеплом и облить пивом. Наверно, компенсировал необходимость поддерживать порядок в стерильном доме тестя. Там он явно сдувал пылинки с полированных ножек шкафа.
– Аккуратный, – согласилась я, и мы обменялись понимающими взглядами. – Даже обидно – зря старалась.
– Жаль, что его манатки не нырнули в сугроб и ему не пришлось их оттуда выуживать.
– Насчет сугроба я промахнулась. Сугроб оказался левее. И хватит об этом. Закрыли тему. Мне только одной вещи жалко.
– Зажигалки?
– Ага. Ведь только на прошлой неделе ему подарила.
– Ты спонтанная женщина.
– Если бы я ее просто шваркнула в угол, он бы за ней туда не полез. И можно было бы обратно поменяться со Светкой.
– Как же! – вдруг разозлилась Кузина. – Фиг она тебе обратно поменяется! Надо быть такой балдой, как ты, чтобы за копеечную зажигалку отдать этой жмотине восьмирублевый французский брасматик!
– Зажигалка тоже французская. И деньгами Светка брать не хотела.
– Потому что деньгами красная цена этой дряни – трешка. Та еще оторвила! И ты тоже прелесть. Нашла кому подарки дарить. Он тебе много дарил?
– Духи. Пластинки. Цветы таскал. Летом, когда дешевые.
– Вот разве что духи… Если ты их еще не все на себя вылила, давай махнемся?