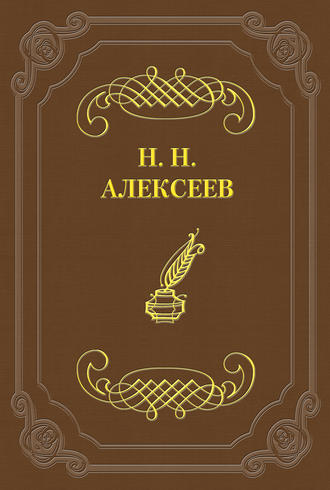 полная версия
полная версияЛжецаревич
Задумалась Розалия. Облокотилась она на стол и смотрит, не мигнет, на пламя свечи.
У Розалии худенькое, острое личико. Брови, тонкие, как две дуги, поднимаются над небольшими серыми глазами. Цвет лица белый до бледности, и от этого губы кажутся алее. Нос тонкий, с легкой горбинкой. Белокурые волосы прикрывают уши. Тонкою, хрупкою выглядит Розалия. Кажется, дохни на нее сильней, она и растает, словно восковая.
Отец Николай назвал ее пташкой; сравненье иезуита было верно: похожа она на пташку. Так и сам пан Адам ее называл, когда вздумалось ему подарить Розалию своему духовнику. Пришла же блажь в его хмельную голову отдать «пташку черному ворону»! Случайно это вышло. Пир был у князя и к концу уже подходил не потому, чтобы яства все были съедены или вина выпиты, а потому, что уже невмоготу гостям больше стало пить и есть. Один только «отец» Николай да сам пан Адам держали кубки в руках.
– Ни у кого из вас, паны, таких красоток в дворне нет, как у меня! И все мои: которую захочу, ту и возьму! Рабыни! Холопки! – расхвастался князь.
– Ну, уж и ни у кого! – буркнул кто-то.
Князь стукнул по столу кулаком так, что посуда запрыгала. Потом он закрутил ус.
– Посмотрим! Гей, холопы! – крикнул он: – Выбрать из дворни девок самых красивых да привести сюда! Мигом!
Приказал пан – «мигом», так и сделали. Целый ряд высоких и низких, полных и худощавых, дышащих здоровьем и бледных женщин прошел перед гостями. Одна за другой, то бледные, дрожащие, то красные от смущения, подходили девушки и останавливались как вкопанные в нескольких шагах от стола. Гости пересмеивались, подмигивали им, сыпали бесстыдными шутками, разбирали их, как лошадей, по статьям, а они не смели шевельнуться, пока князь не подаст знака уйти. Вишневецкий расхваливал каждую на всякие лады.
– А где эта маленькая – как бишь ее… Розалия? – спросил он вдруг.
Холопы мялись.
– Ну?! – грозно промычал Вишневецкий.
– Не пошла она… – пробормотал один холоп.
– Не пошла?! – рявкнул пан Адам, и глаза его налились кровью. – Привесть! Принести, если не пойдет! А вы – вон! – махнул он девушкам.
– Ты что ж не шла? Убью! – свирепо выговорил князь, подходя к Розалии, когда она, плачущая, трепещущая, предстала перед гостями.
– Этакую красотку, да убивать?! Грех! – пробормотал заплетающимся языком иезуит Николай.
Вишневецкий сразу повеселел.
– Красотку? А? Не правда ли? Ишь, крохотная какая, что девочка, а сложена! Богиня римская! Ну-ка, тряпки прочь! – крикнул он Розалии.
Та не понимала, чего от нее хочет пан.
– Тряпки прочь, говорю! – крикнул он и рванул с ее плеч платье.
Девушка вскрикнула и закрыла руками вспыхнувшее яркой краской стыда лицо.
Сильный, как вол, князь Вишневецкий сорвал ее с пола, как перышко, поставил на свою ладонь и высоко приподнял, удерживая равновесие. Розалия отняла руки от лица. Длинные белокурые волосы ее распустились. Она пыталась прикрыть ими свою наготу, и они золотистой волной падали с ее плеч. Эта маленькая полуобнаженная девушка была прелестна. Формы женщины еще боролись в ней с формами девочки, но уже в целом чувствовалась гармония. Девственно чистая, стыдливая, она была прекрасна той красотой, на которую можно молиться, потому что в такой красоте сквозит веяние чистого духа. Такая красота есть всюду в мире, как в целом, так и в ничтожных частях его, но, чтобы познать ее, нужно до нее возвыситься, нужно забыть на миг «земного человека», и небесную искру, брошенную в душу каждого, превратить в тихое пламя.
Этого не мог сделать ни пан Вишневецкий, ни иезуит, ни пьяные гости. Их глаза загорелись страстным огоньком, концы губ подергивались.
– А? Какова, какова!.. – приговаривал князь Адам и искал сравнения. – А, какова… пташка?
– Пташка? Да, пташка! – пробормотал иезуит и осушил свой кубок.
Вишневецкий захохотал.
– Ха-ха-ха! Так на же, утешайся с этой пташкой, черный ворон! Дарю! Бери ее себе!
И пан Адам кинул Розалию в объятья отца Николая.
– Спасибо… Я ее возьму к себе только… экономкой… не более, – проговорил иезуит, скромно опуская глаза.
Так попала она в дом отца-иезуита, который никогда не отказывался от участия в пирушках своего ясновельможного пана.
Но иногда на патера находили полосы раскаяния, ему грезился ад и бесы, хохочущие и пляшущие вокруг его упитанного тела; в это время – во время раскаяния – он верил во все: и в ад, и в чистилище, как самый пламенный сын римской церкви. Мурашки холода пробегали по его телу. Он становился холодно-суров, начинал вести аскетический образ жизни, молился по целым дням. Вместе с собою он заставлял молиться и Розалию.
Розалия повиновалась. Она опускалась на колени, набожно устремляла взгляд на икону, но не молилась. Правда, рука ее творила крестное знаменье в такт читаемым нараспев латинским молитвам отца Николая, но молитвенного настроения в ее душе не было.
Она крестилась, крестилась, но слова покаяния не слетали с ее языка, сознание какой-либо вины не пробуждалось.
Пришла пора ей молиться иначе позже, когда она сблизилась «с ним». Как не понравился «он» ей, когда она его впервые увидала! Рыжий, некрасивый, неравнорукий… «Какой противный!» – подумала она.
И со второй же встречи все пошло иначе. Он подошел к ней, заговорил, взглянул, кажется, в самую ее душу своими тусклыми голубыми глазами – и свершилось чудо! Этот некрасивый человек, почти уродливый, стал ее господином, она – покорной рабыней. Она покорилась не сразу. Она боролась, возмущалась собою, искала прибежища в молитве – тогда она поняла, что значит молиться! – но, наконец, покорилась. В нем таились могучие страсти; они прорвались и захватили ее, и заставили странно затрепетать ее маленькое тело, забиться сердце. Она поняла, что значит страстно любить, что значит добровольно отдаться любимому существу. Ей открылся рай, и ничтожными казались в сравнении с ним те адские муки, о которых в порывах раскаяния говорил ей отец Николай. Да если бы они – эти муки – были еще ужаснее, они не остановили бы ее.
Полюбив его, Розалия в первый раз сказала себе: «Я счастлива!» А между тем, в этом счастье было много горечи, хотя бы вот этакое долгое ожидание, когда сердце рвется от тоски или когда он приходит сумрачным. За последнее время это все чаще стало повторяться. Его гнетет какая-то дума, это ясно для Розалии. Она допытывалась. Он или отмалчивался, загадочно глядя на нее, или отвечал:
– Погоди, узнаешь. Еще не пришел срок!
Часто она обвиняла себя, что он печален: верно, она мало ласкает его. Она удваивала ласки, он оживлялся, но потом опять погружался в свою угрюмую думу.
Тяжело бывало Розалии, но все это искупалось, когда он привлекал ее к себе, страстно целовал, называл «своею коханкой».
Свеча стаяла больше, чем наполовину; длинный нагоревший фитиль согнулся дугою, и пламя меркло.
Розалия оторвалась от своих дум, сняла нагар со свечи и заходила по комнате.
«Господи! Что же он не идет!» – думала она и сжимала грудь своими маленькими руками, точно желала сдержать биение своего сердца.
От крыльца донесся шум шагов.
Розалия бегом бросилась к крыльцу.
– Ты? Ты, Григорий?
– Я, люба моя! – послышался голос из темноты.
– О, мой дрогий! О, мой коханый! – дрожащим от радости голосом проговорила она.
IX. Перелом
– Опять невесел! Опять сумрачен, как день осенний! – говорила Розалия, заглядывая в лицо Григория.
– Нет, я ничего…
– Ай, не добрый! Зачем обманываешь меня? Вижу, вижу… Что тебя кручинит? Скажи, милый! Скажи, родной!
Ее глаза почти с мольбою смотрели на него.
– Есть ведь кручина? Да? Поведай, о чем кручинишься?
Григорий сжал ее руки в своих.
– Да!.. Да, есть у меня кручина… – заговорил он быстро, и новое, никогда прежде не виданное Розалией выражение появилось на его лице. – Да, есть! Скажи, не кажется ли тебе, что чудно устроен наш белый свет. Почему мы с тобой в маленьких людях и терпим молча обиды и поношенья от сильных мира сего? Хуже мы других? Не хуже! Раскрой мою грудь, вынь сердце да загляни в него, что в нем таится, не найдешь такого и у самого ясновельможного князя Адама! Да что у него! У круля польского не найдешь! Чем виновен я, что родиться мне пришлось в маленьких людях? Судьба ошиблась, не туда меня кинула! Так я исправлю ее ошибку… Я хочу счастья, хочу жизни!.. Понимаешь, о чем я кручинюсь?
Он волновался и до боли сжимал ее руки. Розалия смотрела на него с некоторым испугом. Она тихо высвободила свои руки.
– Понимаю, – промолвила она, – понимаю… Только можно ль об этом кручиниться? Всякому свое. Да и разве уж такое счастье быть паном? У них свои беды… А счастье… Господи! Да разве счастье панством, богатством дается! Сидеть вот этак с коханым своим и речь его слушать, и каждое слово ловить, и в сердце свое укладывать, и знать, что только одна, ты люба ему, как и он один тебе – ах, милый! да разве это не есть счастье? Что нам до панства, что нам до чертогов их золотых? Коханый! Любишь ли ты меня?
– Люблю.
– Так чего же еще нам надо? Ты вон панам можешь завидовать, а мне ничего не надо, ничего, только б век с тобой быть, только б знать, что любишь ты меня… Я счастлива, милый, счастлива! А ну, пан мой, развеселись, скажи, что и сам ты хоть чуточку-чуточку счастлив!
Она обвила руками его шею и, улыбаясь, заглядывала ему в глаза.
Григорий смотрел на нее и думал:
«А что, ведь, пожалуй, ты правду сказала, моя маленькая девунька. Не в любви ли одной и сокрыто истинное счастье?»
И чувствовал он, что в этот миг уже не так его тянет к славе и богатству, и панский блеск как-будто потускнел от другого блеска – от блеска горящих счастьем глаз этой любящей девушки.
Любил ли он ее? Ему нравилось ее худенькое миловидное личико, маленькое стройное тело. Так игрушка занимает ребенка. Если игрушку отнимут, ребенок поскучает, но скоро утешится новой. Если бы вынудили обстоятельства, Григорий, не задумываясь, покинул бы Розалию. Быть может, он посетовал бы на те условия, которые заставляют его расстаться с этой девушкою, но изменить их не постарался бы.
Его сближение с Розалией не было основано на страсти – им руководил расчет получить частый доступ в дом иезуита и, быть может, проведать там что-нибудь полезное для себя.
Если средством для достижения этой цели явилась хорошенькая девушка, то Григорий тем более был доволен.
Бывали, впрочем, моменты, когда он сам начинал думать, что любит Розалию. Один из таких моментов был и теперь. Он привлек к себе девушку, покрыл поцелуями ее зардевшееся личико.
– Милая ты, хорошая… – говорил он.
Потом он посадил ее к себе на колени, как ребенка, взял ее руки и целовал их. Свеча нагорела и коптила.
– Подожди, я поправлю, – сказал Григорий, потянулся и сбросил нагар.
В это время взгляд его упал на недописанное письмо отца Николая.
– Что это? Посланьице? – проговорил он, протягивая к письму руки.
– Нельзя, нельзя! Отец Николай не велел! – воскликнула Розалия и шаловливо закрыла от него письмо.
– Даже мне нельзя?
– Даже и тебе. А прочесть хочется? А вот не дам его тебе!
И она, смеясь, отбежала с письмом в руках на другой конец комнаты.
Григорий бросился за нею. Она весело смеялась и змейкой выскальзывала из его рук. Он не смеялся. Его лицо было бледно, на лбу вздулась жила. Он мял руки девушки так; что кости хрустели, но Розалия думала, что он шутит, и продолжала, смеясь, отбиваться от него и не давать письма. Наконец, она запыхалась.
– На, на уж, возьми, Бог с тобой! Все равно немного прочтешь, ведь оно латинское, ха-ха-ха! – сказала она, подавая ему письмо.
И была пора – в его глазах уже начали мелькать недобрые искорки. Григорий жадно схватил письмо, наклонился над ним. Он плохо знал латынь, читал медленно, многих слов не понимал, но смысл письма уловил.
Пока он читал, Розалия что-то говорила ему, но он не слышал. Пальцы его, державшие письмо, дрожали.
Когда он окончил чтение и опустил листок на стол, Розалия, взглянув на него, невольно воскликнула:
– Григорий! Что с тобой?!.
Он был бледен как мертвец, руки его тряслись от нервной дрожи, а глаза горели лихорадочным огнем.
– Что со мной? – невнятно проговорил он бледными губами. – Что со мной?
И вдруг он схватил девушку, приподнял над собой и проговорил, задыхаясь:
– Царем буду! Понимаешь, московским царем!
Потом он опустил испуганную Розалию и взялся за шапку.
– Прощай!
– Григорий! Что ты? Так скоро? – воскликнула она.
Но Григорий уже не слышал ее возгласа, он уже бегом спускался с крыльца.
Он не пошел в челядню, но побежал в поле. Голова его была, как в огне, грудь тяжело дышала. Он сбросил шапку, раскрыл ворот кафтана и подставил грудь ветру. В его мозгу проносилось:
«Значит, буду царем! Решено!»
И ему мучительно захотелось крикнуть на весь мир о своем решении. Он поддался искушению и крикнул среди тьмы и снежных сугробов:
– Царевич я, Димитрий!
Скоро клич этот прокатился из конца в конец по Польше с Литвой и по Московии.
X. Больной
Еще только брезжил рассвет, когда Матвей, один из слуг Вишневецкого, проснулся. Ему почудилось сквозь сон, что кто-то громко стонет невдалеке от него. Матвей прислушался. Все было тихо.
– Тьфу! Наваждение лукавого! – пробормотал он.
Голова его уже склонялась к подушке, когда стон явственно прозвучал в тишине, нарушаемой только легким храпом спящих.
– Кто стонет? – спросил Матвей.
– О, Господи! Иисусе Христе! Не приведи умереть без покаяния!
– Это никак ты, Григорий?
– Ой, я! О-ох, моченьки моей нет!
– Недужится?
– Смерть моя приходит.
– Полно тебе, никто, как Бог.
– Ой, нет! Чую! Добрый человек!
– Ась?
– Сделай Божескую милость…
– Ну-ну?
– Сбегай за попом: покаяться хочу…
Матвей поскреб затылок.
– Гм… Рад бы, да ведь ты русской веры, где ж попа-то найдешь? Нет близко. Я сам год уж из-за того в храме Божьем не бывал.
– Позови хоть латинского – все равно поп…
– Разве что… Сходить к езувиту панскому, что ль?
– Сходи, добрый человек! На том свете за тебя буду Бога молить.
– Да уж ладно, схожу… Эх, жизнь! – добавил Матвей, раздосадованный и тем, что приходится оставить надежду на сон, и тем, что вот вдруг, ни с того, ни с сего помирает молодой парень-здоровяк, и тем, что надо идти будить «езувита».
Одеваясь, он с завистью глядел на сладко похрапывающих сотоварищей и излил свое раздражение возгласом:
– Чего, черти, дрыхнете! Тут душа христианская с телом расстаться готовится, а они спят, что безногие!
Почему безногие должны спать особенно крепко, этого, вероятно, не разрешил бы и сам Матвей, но окрик подействовал: кое-кто зашевелился и осведомился, что за шум. Скоро уже вся челядня пришла в движение.
Матвей побежал за отцом Николаем. Любопытствующие и соболезнующие окружили ложе больного.
Григорий, казалось, лежал в полузабытьи. Грудь его поднималась тяжело и неровно. По временам он открывал глаза, обводил взглядом стоявших у постели и вновь закрывал. Иногда он начинал метаться и неясно произносил какие-то слова. Вслушавшись, можно было разобрать: «Царевич… Бежал… Бориска»…
Случайно он шевельнулся сильнее, ворот сорочки открылся, и на груди его сверкнул драгоценными камнями большой золотой крест. Он тотчас же запахнул ворот, причем что-то похожее на испуг выразилось в его глазах, но крест уже был замечен окружающими, и они многозначительно переглянулись. В их взглядах можно было прочесть: «Истинная правда выходит, что он не простого звания – крест-то какой!»
Пришел отец Николай, заспанный, не в духе.
Он не совсем охотно шел напутствовать «еретика». Была еще и другая причина для его неудовольствия: умирал человек, на которого он имел свои виды.
Когда патер приблизился к больному, все отошли от постели. Григорий лежал с закрытыми глазами и не шевелился. Иезуит внимательно вгляделся в его лицо.
«Он еще не так плох», – подумал патер, видавший на своем веку не мало умирающих.
– Сын мой… – проговорил отец Николай, наклоняясь к Григорию.
Больной открыл глаза.
– Отче!.. Час мой приходит! Покаяться хочу… – слабо заговорил Григорий.
– Надо надеяться на милость Божию, сын мой, но покаяться всегда хорошо… Не забудь, кроме того, что тебе приходится исповедаться у католического священника, а не у схизматика, ты должен благодарить Бога за такое счастье: твоя душа, несомненно, попадет в рай.
Григорий кинул из-под полуопущенных век быстрый насмешливый взгляд на патера, но тотчас закрыл глаза и заговорил, тяжело вздохнув:
– Облегчить душу хочу… Тайна великая есть у меня.
– Говори, говори, сын мой. Я слушаю.
Григорий зашептал.
В челядне стояла гробовая тишина. Столпившиеся в углу слуги, притаив дыхание, наблюдали за происходившим.
Они видели, как патер, сперва равнодушно кивавший головой в такт речи исповедующегося, вдруг слегка отпрянул от постели больного, как он поднес руку ко рту, чтобы не вскрикнуть, как изумление выразилось на его бритом, сразу покрасневшем лице. После этого иезуит еще ниже наклонился к Григорию. Теперь он уже не кивал равнодушно головой, он впивался глазами в лицо Григория, делал жесты, не совсем подходящие к торжественности минуты; одним словом, еще никогда никому не приходилось видеть иезуита в таком волнении.
Исповедь продолжалась долго. Когда, наконец, отец Николай приподнялся и скороговоркой, неровным голосом пробормотал по-латыни формулу отпущения грехов, он поспешно спросил у холопов:
– Что, пан Адам еще почивает?
– Почивает.
– Как проснется – немедленно доложите мне! – приказал он.
После этого он ушел из челядни, и все видели, что он, проходя по двору, покачивал головой и размахивал руками, рассуждая сам с собой.
– Должно, сказал он езувиту что-нибудь, ой-ой, какое! – пробурчал в раздумье Матвей.
– Н-да. Надо думать, – ответили ему.
– Как бы еще не напрело, – добавил простоватый мужик.
Вокруг него засмеялись.
– А что ж? – оправдывался он. – Наговорил, может быть, такое, что пан разгневается. Он-то помрет, ему что! А пан князь на мне сердце и сорвет. Вот те и пожалел душу христианскую на свою голову… Э-эх, грехи!
И он сумрачный побрел прочь от хохотавших товарищей.
Григорий неподвижно лежал на своем ложе. Он казался спящим или в забытьи. Лицо его то вспыхивало, то бледнело.
XI. Пан и патер
Князь Вишневецкий проснулся очень не в духе, и причина его дурного расположения была проста: наступающий день обещал быть очень скучным. Последние гости вчера уехали, никаких развлечений не предстояло. Как убить время? Над этим вопросом, лежа в постели, раздумывал пан Адам. Ехать на охоту – что за приятность в весеннюю ростепель? Да и какая в это время года охота? Для этого есть лето, ранняя осень, даже зима – особенно если на медведя, но весна… Да и надоело. Ах, все надоело! Заняться разве ратной потехой? Вывести полки своих гусар, казаков… Но и эта мысль не показалась заманчивой князю, и он опять пробормотал:
– Э! Все надоело! Все!..
Он откинул одеяло и сел на постели. И вся его фигура, обрюзглая, заплывшая жиром, и красноватое лицо, на котором, как два куста, возвышались косматые брови над свиными глазками, и неправильной формы нос, который торчал над огромными усами, падавшими к жирному подбородку, – все выражало полнейшую апатию и недовольство собою и всем окружающим.
Некоторое время пан сидел, все еще продолжая раздумывать, чем бы заполнить предстоящий день, потом зевнул, взъерошил свои редеющие темные волосы и, решив, что ни до чего не додумается, крикнул:
– Одеваться!
Князь одевался медленно, ругал слуг, швырял в них чем попало. Безропотные рабы молчали, появлялись в панской опочивальне и исчезали, как тени. Наконец, когда пан Адам был одет, ему робко доложили:
– Отец Николай хочет повидаться с ясновельможным паном.
– Что ему надо? – ворчливо заметил князь и добавил: – Зови!
Патер не замедлил войти. Лицо его застыло в торжественно-сосредоточенном настроении.
– Добрый день, сын мой.
– Добрый день, святой отец, – ответил князь Адам, подходя под благословение. – Что нового?
– Я должен сообщить тебе удивительную вещь.
– Именно?
– У тебя в доме пребывает царевич Димитрий, – торжественно проговорил иезуит.
Вишневецкий вытаращил глаза от удивления.
– Что?!
– Да, московский царевич Димитрий.
– Сын Ивана Четвертого?
– Да.
– Фу! Это нечто невероятное!
– А, между тем, это – истинная правда.
– Да где же он, этот царевич?
– Позволь, я тебе расскажу все по порядку. Сегодня я был позван к одному из твоих слуг дать ему напутствие.
– К кому?
– К Григорию.
– К Григорию? Мой любимый слуга… Я и не знал, что он болен. Умирает?
– Сказать между нами, он не так плох, поправится.
– Но он ведь схизматик. Как же ты мог?..
– Милосердию католической церкви нет пределов! – опустив долу очи и сложив руки на груди, ответил патер.
– Твое слово – истина. Ну, и что же дальше?
– На духу мне Григорий открыл тайну…
– Ну?!. Не он ли – царевич?!
– Так есть.
Вишневецкий громко расхохотался.
– Чего ты? – холодно спросил иезуит.
– Ой, не могу! Да разве это возможно?
– Почему нет? Ведь слух о царевиче давно ходит. Он мне все подробно рассказал… Я не сомневаюсь, что Григорий – истинный царевич.
Князь Адам перестал смеяться и в раздумье тер себе лоб.
– Но это невозможно! Никогда не поверю! – пробормотал он.
– Я вполне верю Григорию, – заговорил медленно патер, – но если даже допустить, что он лжет, то все-таки нам нужно оставить это на его совести и помочь ему. От этого, как я убежден, кроме пользы для нашей святой церкви и Польши, ничего иного не будет.
– Твоя правда, – задумчиво отозвался на слова иезуита Вишневецкий.
– Ему нужно дать средства достичь престола.
– Гм… А если он – не царевич, а только мой слуга?
– Оставь, говорю, это на его совести… Кроме того, у него должны быть доказательства.
Глаза пана Адама сделались веселыми: находилось дело не только на сегодняшний день, но еще и на много других.
– Ладно. Будь по-твоему, святой отец, – промолвил он и вдруг расхохотался так, что его бычья шея побагровела. – Ведь, этак – ха-ха-ха! – ведь этак мой слуга может сделаться царем москалей! Ха-ха-ха! Вот мы каковы! Царевичи у нас в слугах живут! – самодовольно говорил он между приступами смеха. – Знай наших! – добавил он, лихо закручивая усы. – Пойдем, святой отец, поскорее к царевичу.
XII. Во тьме ночной
Уже давно перевалило за полночь, но Лизбета, младшая дочь пана Самуила Влашемского, не спит. Она даже еще и не пыталась ложиться – все равно не уснет, знает по опыту: ей уже не первую бессонную ночь приходится проводить за последнее время. Она тихо бродит по спальне. Свечи Лизбета не зажгла, и комната освещается только лампадой, теплящейся перед иконой Богоматери Ченстоховской. В полусвете ее небольшая фигура кажется еще меньше; длинные черные волосы распущены, падают частью на плечи, и лицо Лизбеты, окруженное ими, как рамкою, выглядит от контраста очень бледным; огромные глазные впадины обведены тонкими, гордыми, приподнятыми к вискам бровями; цвета глаз не разобрать, но можно догадаться, что он черный.
Лизбета медленно прохаживается по комнате. Она то поднимает руки и сжимает ими голову, то заламывает их, то вдруг останавливается перед иконой и начинает часто-часто осенять себя католическим крестом: быть может, молитва поможет унять ту душевную смуту, которая ею овладела. Но, видно, не помогает и молитва, потому что через несколько минут Лизбета уже отходит от иконы и вновь начинает прохаживаться.
Вот она подошла к окну и открыла его. Апрельская ночь прохладна. Девушка жадно вдыхает свежий воздух, полный аромата распускающейся зелени. Лизбете кажется, что теперь ей легче – по крайней мере кровь не так сильно стучит в висках, и думы, которые беспорядочно проносились в ее голове, как ласточки в ясный день, начинают проясняться и течь более спокойно.
Струя свежего воздуха пробралась в комнату и тревожит спящую тут же старшую сестру Лизбеты – Анджелику. Она проснулась, подняла голову. Свет лампады едва достигает до Анджелики, овал ее полного лица неясно рисуется в сумраке.
– Лизбета!
– Ну? – неохотно откликается девушка.
– Что это ты выдумала? Спать ложись…
– Сейчас, – нехотя отвечает Лизбета, продолжая смотреть в окно.
– Придумает же! Точно жениха поджидает, – добавляет полусонным голосом Анджелика, уже снова охваченная дремотой, опуская голову на подушку.
«Вот и все они так! Все! И матушка, и сестра, и старая няня – все точно за девочку еще считают!.. „Жениха поджидает!“ – звучит в ушах Лизбеты насмешливое замечание сестры. – Почему же я не могла бы поджидать жениха? Анджелика ведь может, а мне нельзя? Что я – девочка, в самом деле? Любить не умею? Знали бы вы!»






