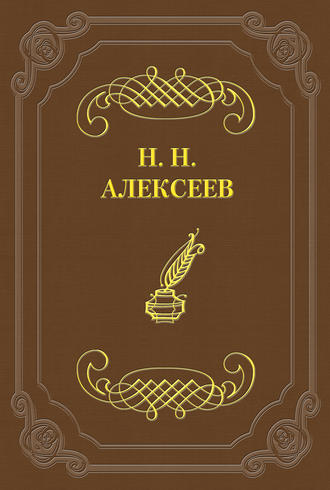 полная версия
полная версияЛжецаревич

Николай Николаевич Алексеев
Лжецаревич
Часть первая
I. Запоздалые путники
Под вечер декабрьского дня 1602 года по проезжей дороге в глубине векового литовского леса ехали два всадника.
Один из них был человек сильного телосложения, широкоплечий, одетый в темный подбитый мехом кафтан и в низкую соболью шапку, прикрывавшую его лоб и уши. Из-за кушака выглядывала пара резных рукояток длинноствольных пистолетов, сбоку была прицеплена сабля в бархатных ножнах с серебряными перехватами. Длинная, широкая золотистая борода лопатой падала на грудь. Внимательный наблюдатель мог бы подметить в этой бороде местами блестки седины. Седина эта, однако, не была «серебром лет», потому что лицо всадника – красивое лицо чисто русского типа – было молодо, хотя серьезно, почти печально.
Второй всадник, ехавший рядом с ним, был почти на целую голову ниже его. Овчинный полушубок казался несколько узким для его широких плеч, высокая баранья шапка, напоминавшая казацкую, была сдвинута немного на затылок и открывала часть рыжеватых волос над умным выпуклым лбом, на котором бросалась в глаза крупная «родимая» бородавка; такая же бородавка виднелась под правым глазом. Эти бородавки очень портили круглое белое лицо всадника; не мог сообщить ему привлекательности и широкий, несколько приплюснутый нос. Желая подбодрить коня, всадник дернул поводья обеими руками; при этом можно было заметить, что одна из его рук короче другой.
По-видимому, природа отнеслась к нему не как мать, а как мачеха и одарила его довольно неказистою внешностью.
А между тем, в этом некрасивом, почти безобразном человеке было что-то, что должно было выделять его из ряда других. Это «что-то» сказывалось во всем: и в его ухарской посадке на коне – сухом, жилистом «степняке» – и в несколько горделиво закинутой голове, и в быстрой смене выражений лица, и в глазах – некрасивых светло-голубых глазах – тусклых, словно выцветших, но умных, живых и глубоких, в которых трудно было прочесть, что таят они, как трудно узнать, что скрывает глубь Северного моря, цвет которого они напоминали.
Насколько хуже был одет второй путник, чем первый, настолько же хуже был и вооружен: у него не было с собой «пистолей», как тогда называли пистолеты, вместо них из голенища сапога выглядывал черенок ножа. Сабля была и у него, но лежала она в простых деревянных вычерненных ножнах, лишенных всяких украшений.
Внешним видом спутники настолько рознились друг от друга, что первого из них можно было принять за господина, второго – за его слугу.
На деле, однако, было не так. Они оба были вольными людьми и зависели один от другого столько же, сколько папа римский от турецкого султана. Их соединили общность происхождения – они оба были русские – и дорога: путь их лежал в одну сторону. Познакомились они между собой всего несколько дней назад на ночлеге в корчме и знали друг про друга очень немногое.
Всадник в казацкой шапке знал лишь, что его спутника зовут Павлом Степановичем, что прозвище его – Белый-Туренин, что он – боярин, родом из Москвы.
Бородатый же всадник знал про своего путевого товарища еще меньше – только лишь, что его зовут Григорием. Одно они оба хорошо знали – то, что, как одному, так и другому, нужно было удалиться в глубь Литвы, подальше от русского рубежа. По каким причинам нужно это было каждому из них – они не старались допытываться.
Путники долгое время ехали молча.
Слабый отблеск вечерней зари догорел на верхушках деревьев; полумрак окутывал всадников. Боярин вглядывался вдаль сквозь сумерки.
Справа и слева, как две стены, чернел хвойный лес; покрытая снегом дорога белою змейкой вилась между этими молчаливыми стенами и скрывалась во тьме. Нигде не виднелось ничего, что могло бы указать на близость жилья. Тишина была такая, что жутко становилось.
Боярин опустил голову и, задумавшись, ослабил поводья. Его притомившийся конь пошел тише. Григорий тоже не подгонял своего взмыленного «степняка».
– Что, Григорий, ведь, пожалуй, нам заночевать в лесу придется, – прервал, наконец, молчание Павел Степанович.
Спрашиваемый ответил не сразу.
– Не знаю, что и ответить. Сказывали мне, что лесом дорога верст десятка два тянется, а, кажись, мы проехали немало, а ей все конца и края нет. Да и кони попритомились. Подогнать их разве. Авось, доберемся до ночлега.
– Гм… доберемся ль? Уж ночь совсем. Смотри! – и Белый-Туренин при этих словах указал своему спутнику на первую звезду, зажегшуюся над их головами.
– Да. Заночевать, что ль, в лесу? Насберем хворостку, костерчик разложим. Коням сено запасено. Э! Что это с ними? – последние слова относились к коням, которые почему-то внезапно сменили свой тихий трусок на быстрый карьер.
– Почуяли что-нибудь, – заметил боярин.
Было ясно, что кони чего-то испугались. Они фыркали, пряли ушами и все подбавляли бега.
– Чего бы им испугаться? – пожав плечами, в раздумье добавил Белый-Туренин.
Его спутник не отвечал, он прислушивался. Вдруг он живо обернулся к Павлу Степановичу.
– Слышишь, боярин?
– Что?
– А вот, послушай…
Боярин прислушался. В лесу, казалось, стояла прежняя мертвящая тишина.
– Все тихо.
– Обожди, обожди малость.
Откуда-то издали до слуха Белого-Туренина донесся унылый протяжный вой.
– Волки! – воскликнул он и добавил с легким волнением: – Не пришлось бы попасть к ним на зубы.
Товарищ боярина весело рассмеялся.
– Теперь расслышал? Они и есть! Кони раньше нас почуяли. Зверье подгонит наших лошадушек, ха-ха-ха! Ну-ну, степнячок мой миленький, надбавь, надбавь! – говорил Григорий, которого, по-видимому, приближение волков не только не испугало, но даже обрадовало; по крайней мере, в его голосе слышалась только бесшабашная удаль.
Белый-Туренин был тоже не из робких, но он любил смотреть прямо в глаза опасности, не играть с нею и подшучивать над ней, а, если этого требовала необходимость, идти напролом с сознанием, что нужно или победить, или погибнуть. Это была храбрость, но храбрость благоразумная, холодная, та храбрость, которая более нужна полководцу, чем простому воину, храбрость не юноши, а испытанного мужа.
Еще очень недавно, всего за несколько месяцев перед тем, как очутиться на пустынной дороге в глубине литовского леса, Павел Степанович был бесшабашным удальцом, готовым на всякую молодецкую, безумно-смелую потеху. Но с тех пор за немногие дни изменилось очень многое; блестки седины появились в золотистых волосах молодого боярина, а его сердце, потрясенное, облившееся кровью от пережитого горя, перестало отзываться на порывы молодости, забилось ровно и медленно, как у старца.
Он ничего не ответил на слова своего удалого путника и слегка шевельнул уздою, погоняя коня.
Но кони не нуждались в понуканиях: они и без того неслись, как бешеные, разбрасывая из-под копыт комья мягкого снега.
Более часа прошло в бешеной скачке. Темное небо засеребрилось; взошла луна и кинула светлые и темные тени на дорогу.
– Скоро конец леса – вишь, молодняк пошел, – промолвил Григорий.
Действительно, путники, очевидно, подъезжали к опушке. Деревья становились мельче и реже, зато кустарники, густые даже и теперь, в зимнюю пору, лишенные листвы, все больше и больше заполняли пространство между деревьями и местами тянулись непрерывною стеной по обеим сторонам дороги.
Могучи были эти дикорастущие кусты; казалось, им тесно между деревьями, и они стремились на волю и занимали всякий свободный клочок земли; даже на проторенную веками дорогу они протягивали свои цепкие ветви, а иногда, как смельчак-пионер, из ряда их выбегал высокий густой куст и преграждал путь всадникам. Недвижный в безветрии, местами занесенный снегом, облитый сияньем луны, он казался издали сказочным чудовищем, облаченным в обрывки белого савана. И со всех сторон, как вопли его робких, жавшихся по краям дороги собратий, неслись жалобные протяжные звуки, все более многочисленные, все громче раздававшиеся. Очевидно, волки приближались и кольцом охватывали путников.
Вдруг новый звук, короткий и резкий, пронесся по лесу. Это был болезненный и гневный человеческий крик. Он раздался неподалеку от Павла Степановича и Григория, в том месте, где дорога делала крутой поворот.
– Человек крикнул, – заметил Григорий.
– Да.
– Э! Да там, кажись, свалка идет! Слышь, сабли звякают.
Белый-Туренин кивнул головой; шум борьбы, отрывистые, хриплые возгласы и лязг оружия он тоже слышал явственно.
– Значит, потешимся! Любо!.. Гайда! – крикнул Григорий, и, плотнее надвинув шапку, он пригнулся к шее коня и замолотил нагайкой по его бокам.
«Степняк», делая отчаянные усилия наддать хода, почти стлался по земле.
Белый-Туренин не отставал от Григория, извлекая на ходу саблю из ножен.
Через несколько секунд они достигли поворота дороги.
II. В лесной усадьбе
В нескольких верстах в сторону от проезжей дороги стояла усадьба пана Феликса Гонорового. Лес угрюмый, дремучий, со всех сторон надвигался на нее, и случайно забредшему в эту часть леса путнику нужно было бы быть очень внимательным, чтобы различить между деревьями крышу панского дома.
Но такой путник мог быть, действительно, только случайным: по доброй воле в эту часть леса редко кто заглядывал.
Окрестные крестьяне нарочно делали изрядный крюк в сторону, только бы пройти по возможности подальше от этой усадьбы: недобрая слава шла о ней. Причиною же этой недоброй славы был сам хозяин, пан Гоноровый – «проклятый», как звали его крестьяне, «вампир», как называли его окрестные паны из тех, которые были поученее.
В то время, когда боярин Белый-Туренин и Григорий ехали по лесу, прислушиваясь к отдаленному еще вою волков, почти за час перед тем, как им пришлось достигнуть поворота дороги и услышать лязг сабель и крики сражающихся, в одной из комнат «лесной усадьбы» находился сам хозяин ее.
В комнате было темно. Пан Феликс, тяжелыми шагами ходивший по ней, остановился и крикнул:
– Стефан! Огня!
Едва успел смолкнуть панский возглас, а уже узкая желтая полоска света пробилась сквозь дверную щель, и Стефан со свечой в руке появился на пороге. Он поставил свечу на стол, сделал шаг назад к двери и остановился.
– Вельможный пане…
– Что тебе?
– Осмелюсь доложить – пан Гноровский…
– Ну, ну? – заторопил его пан Феликс, и вся фигура его выразила нетерпение.
– Пан Гноровский по лесу едет.
– Теперь? Ночью? Один?
– Двое слуг с ним.
– Далеко он от усадьбы?
– На полчаса езды.
– Давай одеваться, а потом вели Петрусю, Фомке, Юрью и другим там коней седлать и в путь снаряжаться – сейчас едем. Соберись и ты.
– Слушаю, пане добрый, – ответил слуга.
Свет свечи, хоть и не яркий, был достаточен для того, чтобы рассмотреть наружность пана Феликса и Стефана.
Слуга и господин были, казалось, одного возраста – каждому из них можно было дать не более тридцати лет.
Пан Гоноровый был очень высокого роста, почти великан. Расстегнутый ворот сорочки открывал могучую волосатую грудь; широкие плечи и руки, на которых жилы протягивались, как веревки, и при каждом движении играли бугорки мускулов, короткая, толстая, бычья шея – все говорило о страшной силе. Кулак, которым пан Феликс грозно потряс под действием наполнявших его голову мыслей, способен был, казалось, уложить насмерть одним ударом вола.
Пожалуй, пана Гонорового можно было назвать красивым – высокий лоб, орлиный нос, большие черные глаза, рот, обнаруживающий при улыбке белые, как молоко, зубы, целая шапка черных, как смоль, слегка вьющихся волос на голове и такого же цвета длинные молодецкие усы, падавшие к острому гладко выбритому подбородку – все это сделало бы из пана Феликса красавца, если бы не выражение его глаз. Тусклый, неподвижный взгляд пана Гонорового был страшен. Ни проблеска чувства, ни искры веселости нельзя было увидеть в темных глазах Феликса, – это была пустыня, страшная, мертвая, беспощадная. Смеялся ли он, горевал или гневался – его брови, густые, нависшие над глазами, сдвигались или расходились, а глаза оставались по-прежнему тусклыми, неподвижными. Такие глаза, вероятно, были у Калигулы, Нерона и других безумно-кровожадных правителей Рима.
Говорят, глаза – зеркало души. Если это справедливо, то в теле пана Гонорового должна была находиться ужасная душа. О нем многие говорили с ужасом, другие – с омерзением. Крестьяне дрожали от страха при одном его имени, соседи-помещики его побаивались и ненавидели.
О лесной усадьбе пана Гонорового говорили, как о вертепе преступлений и разврата. Когда исчезала без вести молодая красавица-крестьянка, ее родители плакали и шепотом передавали друг другу.
– Ее затащил в свою берлогу «проклятый» пан!
Не проходило года, чтобы не пропало несколько девушек.
Кличка «вампир» была дана панами Феликсу Гоноровому неспроста: говорили, что он любит пить теплую человеческую кровь. Запершийся вдали от всех в своей усадьбе, в глубине леса, пан Феликс не ездил в гости ни к кому из окрестных панов и, подобно средневековому рыцарю, покидал свой дом, укрепленный не хуже иного замка, только для разбоя (поговаривали, что он занимается этим доходным ремеслом), для охоты или для потехи, вроде такой, например, как предавать пламени стога крестьянского сена, вытаптывать спеющую рожь, похищать девушек или, если еще больше хотелось ему поразвлечь себя, запалить с двух концов сразу какую-нибудь жалкую деревушку.
Лишь в последнее время пан Феликс изменил своему нелюдимству – он стал часто бывать в доме одного из местных помещиков, пана Самуила Влашемското. Был ли там пан Феликс желанным гостем или нет, о том он мало заботился: ему хотелось туда ездить, и он ездил.
Поговаривали, что причиною этого были прекрасные глазки дочки пана Самуила Анджелики.
Однако многие находили такой слух лишенным основания, потому что всем было известно, что красавица панна Влашемская – уже невеста одного из здешних же помещиков. Полагали, что пану Гоноровому должно быть это ведомо, и, несмотря на всю свою дикость, он вряд ли посмел бы ухаживать за чужою невестой. Для того, чтобы решить, которая из этих сторон права, достаточно прислушаться к тому, что бормочет пан, одеваясь с помощью своего слуги Стефана.
– А, пан женишок счастливый! Увидим, любо ль тебе будет со мною теперь повстречаться? Не таковский, брат, я, чтобы тебе уступить Анджелику! – бормотал Феликс.
Слуга его, Стефан, представлял полную противоположность своему господину. Насколько тот был высок и силен, настолько он был мал и тщедушен. Он был гораздо ниже среднего роста, но сложен хорошо, и вся его небольшая фигура казалась стройной и гибкой. В его движениях было что-то кошачье. Лицо, обрамленное небольшою белокурою бородой, казалось женственно-красивым, а голубые глаза были ясны и смотрели так приветливо и кротко, что всякого заставляли подумать: «Что за красавец-молодчик! И душа, должно быть, у него ангельская!»
И, между тем, этот женственно-красивый парень был правой рукой своего господина во всех его злодеяниях.
Тщедушный на вид, он обладал стальными мускулами и был ловок, как кошка. Саблей Стефан владел лучше самого пана Феликса, который больше брал силою, чем искусством; кроме того, Стефан, прозванный своими сотоварищами за хитрость Лисом, был храбр и не терялся ни при какой опасности.
Всегда – вел ли он дружеский разговор, бился ли в битве, поджигал ли по приказанию пана деревушку, увозил ли красотку-девушку для своего господина, убивал ли по панской воле опостылевшую любу – всегда он оставался спокойным, кротким с виду, улыбка не покидала его губ, румянец не загорался ярче, только в ясных глазах мелькали чуть заметные искорки.
Пока Стефан помогал пану одеваться, тот расспрашивал его:
– Как проведал ты, что пан Гноровский поедет мимо?
Слуга лукаво усмехнулся:
– Я знал, что вельможному пану приятно будет знать все, что делает пан Гноровский.
– Конечно!
– Так я и постарался присмотреть за ним.
Пан Феликс пожал плечами:
– Ты хочешь, как видно, меня обмануть.
– Посмею ль, вельможный пане?
– Да ведь это ясно! Говоришь, что старался присмотреть за Гноровским, а сам весь день был дома.
– У меня там, в усадьбе Гноровского, другие глаза и уши есть, ха-ха. Есть там молоденькая холопка, московка, Анной звать. Если бы я ей сказал, чтобы она в озеро в прорубь кинулась, так она и то не задумалась бы, не то, чтоб присмотреть за своим господином да мне передать. Прибегла она сегодня сюда и известила, что пан ее ехать к невесте собирается.
– А, вот что! Ну, молодец ты, Стефан! Хитер, смел… Люблю я тебя, как друга, – сказал пан Феликс, потом добавил, прицепляя к поясу саблю: – Теперь беги снаряжайся, да и хлопцев торопи.
– Слушаю, пане.
– Постой! Скажи им, чтоб пана Гноровского в свалке не зарубили: мне он живьем нужен…
– Слушаю, пане, – повторил Стефан и вышел из комнаты.
Скоро небольшой отряд всадников выехал из ворот «лесной усадьбы». Все они были вооружены кривыми польскими саблями. Кое у кого покачивались привязанные к седлу дубинки. У иных сверкали за поясом топоры. Все всадники были молодец к молодцу, как на подбор.
– Слышь, волки воют как, – тихо сказал один из них своему товарищу.
Пан Феликс услышал это и обернулся.
– Ничего! Мы сами – волки! – промолвил он, усмехаясь. – Гайда, хлопцы!
Нагайки поднялись и опустились на бока коней, и через несколько минут отряд скрылся за деревьями леса.
III. Побоище
Когда боярин Белый-Туренин и Григорий приблизились к тому месту, откуда доносился шум битвы, то они увидели, что хотя здесь дорога, по которой они ехали, действительно слегка поворачивала в сторону, но, вместе с тем, пересекалась с другою дорогою, гораздо более широкой. На этой-то новой дороге и кипел бой.
Свет полной луны позволял ясно различать все подробности.
Тройка запряженных в широкие сани горячившихся коней стояла неподалеку; их сдерживал под уздцы рослый парень.
В санях стоял и отчаянно отбивался молодой человек, с бледным красивым лицом, опушенным небольшою темною бородою. На него нападало несколько человек, из которых некоторые, по-видимому, были поранены саблей отбивавшегося. Все нападавшие были пешие. Их коней держал в стороне какой-то малорослый парень с женственно-красивым лицом. Не принимая участия в битве, он лишь делал указания нападавшим, выкрикивая певучим спокойным голосом по-польски:
– Фома! Фома! Не зевай! Накидывай петлю-то! Эх, не так! Ну-ка, ты, Юшко! Ты половчей, попробуй!
Немного далее виднелась неподвижная, словно окаменелая, фигура великана-всадника со скрещенными на груди руками.
В санях, у ног отбивавшегося молодого человека, лежало распростертое тело какого-то старика, судя по одежде, холопа. Старик, казалось, был мертв; кровавый рубец протягивался поперек его белого лба и скрывался в густых, смоченных кровью, седых волосах. Молодой безусый парень, почти мальчик, сидел тут же, склонясь над ним, и старался какою-то тряпкой остановить кровь, текущую из раны на лбу старика. Порою мальчик поднимал глаза, обводил безучастным взглядом бившихся и снова опускал голову, снова принимался за старое. По-видимому, он плохо сознавал, что происходит вокруг него.
Шум свалки заглушал топот коней боярина и Григория по мягкому снегу; Павел Степанович и его дорожный товарищ – последний несколько впереди – успели подъехать совсем близко к побоищу прежде, чем их заметили.
Григорий подскакал в то самое время, когда молодой человек, стоявший в санях, упал от удара дубиной по голове, последовавшего после возгласа красивого молодчика, державшего коней бойцов:
– Грицко! Хвати его дубиной! С ним, видно, так не сладишь… Ошарашь, ошарашь его!
– Вы чего же это душегубством по дороге занимаетесь? Вот я вас, воронье поганое! – крикнул по-русски Григорий, налетая с поднятой саблей на людей, окруживших сани и обматывавших веревками лежащего без чувств молодого человека.
Озадаченные неожиданным появлением защитников – боярин подскакал следом за Григорием – они растерялись и отступили в разные стороны. Их остановил окрик Стефана (малорослый красивый парень был он):
– Чего струсили? Не видите разве, что их всего двое? Бабы!
И он, быстро вскочив на своего коня, первый кинулся на Григория и Белого-Туренина. Его пример подействовал. Скоро при свете луны клинки сабель засверкали вокруг боярина и его спутника.
Павел Степанович хладнокровно отражал удары; он казался таким спокойным, как будто участвовал не в бою, а на простой потехе, ради того, чтобы скоротать время. Что касается Григория, то тот словно переродился. Его лицо, на котором играла довольная улыбка, казалось теперь почти красивым. Он гикал, посвистывал, подпрыгивал на седле, рассыпал удары направо и налево и в то же время успевал отражать саблю Стефана. Несмотря на все свое искусство, слуга пана Феликса должен был, хотя и медленно, отступать под напором своего горячего противника. Дошло, наконец, до того, что он был прижат к краю дороги, к сплошным колючим кустам.
Всего против боярина и Григория билось пять человек, кроме Стефана, но все это были довольно неискусные бойцы, так что, когда Григорий, увлекшись поединком с Лисом, постепенно отдалился от Белого-Туренина, Павел Степанович настолько успешно мог единоборствовать против них всех, что одного, тяжело ранив в руку, заставил бросить саблю и выйти из битвы, а другого замертво уложил на землю, раскроив ему череп.
Положение слуги пана Гонорового становилось все более критическим. Григорий уже почти загнал его в кусты, где конь Стефана был стеснен в движениях. Красавец-холоп не выказывал ни малейших признаков трусости. Он оставался хладнокровным, зорко следил за противником, выжидая удобного момента для нанесения удара, улыбка не сбегала с его лица, но на лбу от утомления выступили крупные капли пота, и рука отражала саблю Григория уже не с такою быстротой и ловкостью, как прежде.
В это время ему явилась помощь. Словно рев дикого зверя пронесся по лесу и стих, и недвижная статуя – пан Феликс Гоноровый – ожила. Конь его взвился на дыбы и в два прыжка очутился подле Стефана. Сабля пана со свистом прорезала воздух, страшные, мертвые глаза глянули в лицо Григория.
IV. На волосок от смерти
Биться Григорию против двоих было нелегко. Он отбивал своей саблей удары, отклонялся то в одну, то в другую сторону от вражеских клинков. Теперь настала его очередь отступать. Стефан давно уже выбрался из зарослей, и, наоборот, Григорий был загнан своими противниками в кусты. Он чувствовал, что еще немного – и ему не устоять: биться с двумя такими бойцами становилось не под силу. Поэтому он вздохнул с облегчением, когда пан Феликс пробурчал:
– Стефан! Я один справлюсь. Поди, бейся с другим…
«Слава Богу! С одним-то я еще потягаюся!» – радостно подумал Григорий, скрещивая свою саблю с оружием противника, когда Стефан, повинуясь панскому приказу, отъехал.
Однако и с одним паном Гоноровым нелегко было управиться. Пан не придерживался никаких, обычных правил, он рубил сплеча.
Здесь сила заменяла искусство. Кривая сабля его так и мелькала в воздухе. Григорию некогда было нападать – он едва успевал отбиваться. А пан все наступал. Его тяжелый, большой конь напирал грудью на сухопарого «степняка» и заставлял подаваться назад, все дальше и дальше в кусты.
Феликс не сводил своих стеклянных глаз с лица противника, и Григорий начинал как-то странно чувствовать себя под этим застывшим взглядом. Он нарочно старался не смотреть в глаза противника, но его словно толкал кто: «посмотри, да посмотри!», и он, нет-нет, да и взглядывал против воли. «Ну и глазища же у него! Что у сатаны!» – думал Григорий, недовольный тем, что эти безжизненные глаза мешали ему биться. Да, мешали. Сначала он этого не сознавал, только чувствовал некоторую неловкость; его рука как будто действовала медленнее, чем всегда; потом он начал испытывать такое чувство, словно на него надели путы и стягивают ему руки, заставляют странно неметь все тело. Но это не была усталость – это была скорее какая-то вялость, апатия; нечто подобное чувствует человек, когда его «морит» сон.
Григорий бодрился, но непонятное состояние все усиливалось. Уже несколько раз он едва не был зарублен противником, лишь с большим усилием ему удалось уклониться от смертельного удара. И вот настал момент, когда сабля пана блеснула, заносясь над головою Григория, а он сидел неподвижно, не пытаясь уклониться от удара, не поднимая своего оружия навстречу противнику, глядел прямо в глаза пана Феликса и думал: «Да что же это я? Ведь он меня сейчас зарубит!»
Смерть его, казалось, была неминуема.






