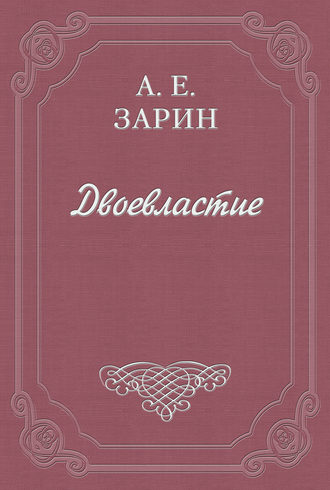 полная версия
полная версияДвоевластие
И вдруг пришла матушка и поведала роковую весть. Ольга вскрикнула, взялась за грудь и сомлела. Всполошились все, забегали. Сама княгиня нагнулась и стала пером от черной курицы ее окуривать; Маремьяниха свяченой водою с угольков стала брызгать, а боярыня упала на рундук и громко заплакала.
Ольга очнулась, взглянула на мать, и снова скорбь поразила ее.
– Матушка, не покинь меня! – вскрикнула она и опять упала.
– Ой, порченая! – пугливо заговорили девушки. – Гляди, как бьется!
– Не иначе как за знахаркой надо, – сквозь слезы вымолвила боярыня. – Олюшка, очнись!
Княгиня первая догадалась.
– Князь задаст вам за знахарку. Зовите Дурада, спешно!
Но Ольга очнулась. Вся трепеща, прижалась она к матери и осыпала ее нежными ласками.
А тем временем на половине князя боярин говорил с князем о своем отъезде.
– Напрасно, Петр Васильевич, – сказал ему князь омрачаясь, – думал я, здесь умирать вместе будем, внучат качать. Я уж с Федором Ивановичем говорил. Слышь, открывается тут приказ. Новой чети. Тебя воеводою посадить можно. Покойно и почет! Ой, оставайся!
– И не проси, князь, – уперся боярин, – невмоготу мне ваша жизнь. Все при царе… ходи и дрожи. А там я себе голова. Да и суета не по мне. То к тебе посланец, то ты посланцем: утром наверх иди, дужится или недужится. Негож я, обленился. Мне и в Рязани‑то воеводство не под силу было. Куда мне, простому? Мне бы лежанка теплая да банька.
Князь засмеялся.
– Что же, неволить не будем! Честью проводим. Когда же отъехать думаешь?
– Да на неделе, князь.
– Ин быть по – твоему. А жалко!.. Не по моим мыслям вышло! – со вздохом сказал князь.
Ольга словно успокоилась, примирившись с неизбежностью разлуки. Только в последние дни она не отходила ни на шаг от матери и временно спала с нею.
По настоянию князя к ней пришел Штрассе, осмотрел ее, ласково ей улыбаясь и добродушно кивая головою.
После его осмотра все вдруг стали с ней еще ласковее.
– Смотри, чтобы князь был! – шутливо погрозила ей княгиня.
Ольга вспыхнула как маков цвет и поняла, что беременна. Но мысль об этом наполнила ее не радостью, а ужасом.
– Помру я, Агаша, – тоскливо шептала она ночью своей верной подруге.
Наконец боярин Терехов уехал. Как подстреленная птица билась в рыданиях Ольга, прощаясь с отцом и матерью, и ее на руках унесли в терем.
Задумчив сидел боярин в тяжелом рыдване, и одна и та же мысль неотвязно мучила его душу: «Ишь, за немилого выдал. Знал ли про то! Обет‑то давали, еще и ее не было. А все дура старая: не уберегла! Ну и задам я Алешке, как свидимся!»
Но от этих дум не становилось легче боярину и, вспоминая прощание с дочерью, он чувствовал укоры совести. «Сгубил девку!» – горестно думал он.
Горько было молодой княгине Теряевой – Распояхиной, осталась она одна – одинешенька в Москве в доме нелюбимого мужа, а над ними собиралась новая беда, туча грозовая.
Нет на свете муки тяжелее муки ревнивого сердца, любящего без взаимности. Молодые сердца не испытывают ее, и она выпадает только на долю пожилых или безобразных лицом.
Такие муки испытывал коломенский торговый человек Парамон Ахлопьев. Был он и годами не молод, и лицом не красив, но любил Людмилу Шерстобитову всею силою своей души. Торгуя панским товаром, не раз продавал он Людмиле и ее матери и камку, и парчу, и атлас для вышивки и пленился Людмилою. Но, как ни искал он ее взаимности, девушка только отворачивалась от него.
Мрачнее тучи ходил Парамон, обдумывая, как бы завладеть Людмилою, и решил действовать через мать. Хитрые глаза да лисий облик Шерстобитовой словно подсказывали ему, что за деньги мать продаст дочь свою, и Парамон Ахлопьев издалека повел речи с дворянскою вдовою.
– Видим мы даже очень, что не по чину живешь ты. Тебе бы сидеть да сенным девушкам приказывать, а ты вон на людей работница! – вкрадчиво сказал ей однажды Ахлопьев.
Шерстобитова вспыхнула и обидчиво сжала губы.
– Я к тому, собственно, что в твоей воле судьбу свою переменить! – продолжал Ахлопьев.
– Это как же переменить ее? – спросила Шерстобитова на его подвохи.
Ахлопьев нагнулся к ней и произнес:
– Отдай, Надежда Петровна, дочь свою за меня. Вот и перемена!
Вдова даже вздрогнула от радости.
– Казны у меня на всех хватит. Дом – чаша полная!
Шерстобитова недолго думала над этим предложением и быстро ответила:
– Засылай сваху!
В три дня порешилось дело. Много слез в ту пору пролила Людмила, но ее мать была непреклонна. Не знала она тогда про свидания дочери с князем, ничего не ведала про их уговор и думала только о перемене жизни с голода на сытость, с хлопот на покой и почет.
Но когда явилась к ней Ермилиха да поведала ей про тайную любовь, да, суля золото, стала сманивать на согласие, голова кругом пошла у дворянской вдовы. Чего не случается? Пока что полюбовница, а там и княгиня! Шутка ли это!.. А денег‑то у князя Теряева уж куда больше, чем у Ахлопьева. Кто не знал в Коломне князя Теряева – Распояхина!
А тут Людмила и заговорила:
– Не быть мне за Парамоном. Лучше с камнем в воду!
– Что думаешь, глупая? – зудила Ермилиха. – Счастье‑то раз дается. Смотри, как помрет сам князь – отец, в усадьбу перейдем. Всей владей. Холопов одних ста три будет!.. А теперь казны даст, беречь как очи будет!..
И Шерстобитова согласилась.
– Только одно, милая, – запросила она, – чтобы ото всех потаенно!
– Это‑то уж будь покойна! Мой Мирон да и княжий стремянный все сделают!..
И действительно, потаенно скрылись они из Коломны; только тайну Людмилы знали почитай все соседи, кроме Парамона.
Пришел он к Шерстобитовым в воскресенье после обедни и диву дался: калитка настежь, а что и того хуже – и дверь нараспашку. Шагнул он в двери со словами: «Господи Иисусе Христе…» – да и остановился с разинутым ртом посреди горницы. Все разворочено; пяльцы опрокинуты, другие с начатой работой стоят, образа сняты, словно разбойники были!
В голове Ахлопьева помутилось; выбежал он на улицу и заорал благим матом:
– Убили! Ой, убили мою голубушку!
– Парамон Яковлевич, ты чего? – посыпались на него вопросы.
– Чего?! – кричал Парамон. – Шерстобитовых нету! Гляньте, православные!
Народ гурьбою ввалил в брошенную избу Шерстобитовых, и соседи лукаво закачали головами, но имя князя, хотя и просилось у многих с языка, пугало всех как гроза.
– К воеводе иди! – советовали одни. – Сыск сделает!
– Ой, поопасись! – говорили другие.
– Може, они на богомолье поехали, – догадывались третьи.
– Ермилиха их на богомолье повела, – ехидно заметил кожевник, что жил напротив.
Но Парамон ничего уже не слышал. Словно что оборвалось внутри него; в уме потемнело, и он со стоном упал.
С неделю пролежал без памяти Ахлопьев, а потом, когда очнулся, снова стал как безумный. Мысль, что Людмила потеряна, не давала ему покоя.
Он передал торговлю приятелю и собрался в дорогу.
– Куда ты? – спрашивали его.
– На Угреш, угодникам помолиться, – ответил Ахлопьев и уехал.
Месяца через два он вернулся в Коломну, угрюмый, молчаливый, сосредоточенный на одной думе.
– А хочешь, по приятельству скажу тебе, где твоя Шерстобитова? – сказал однажды ему купец из красного ряда.
– Где?
– Пойдем, скажу! – Купец отвел Парамона к пустырю за рядами и там, озираясь по сторонам, тихо сказал ему: – Молодой князь Теряев сманил их. Слышь, молодую‑то в полюбовницах держит.
– Где?! – закричал Ахлопьев.
Купец даже отскочил от него.
– Тсс!.. Что орешь, непутевый! – воскликнул он и зашептал снова: – Где хоронит, того не знаю, а что сказал – верно. Теперь князь‑то на войну уехал.
Купец ткнул Ахлопьева дружески в бок и отошел.
Как у волка, вспыхнули глаза у Парамона, стан выпрямился, кулаки сжались. Вся тоска, испытанная горечь, сожаление об утрате – все разом обратилось в мучительную ненависть.
– Найти бы только! – бормотал он про себя, возвращаясь домой, и наутро вновь исчезал из Коломны с твердым намерением разыскать тайное убежище Людмилы.
Тихо и уныло протекали дни Людмилы в ее тихом убежище. По отъезде князя ездила она в Москву к Иверской Божьей Матери, завернула в Троицу и Угреш и словно успокоилась духом. Только о князе и были все ее думы, а ко всему чуяла она, что забеременела, и тихая радость наполняла ее.
Не знала она теперь ни тоски, ни скуки. На дворе ненастье, хлещет дождь и гудит ветер, ломая деревья, иногда издалека доносится волчий вой, а ей хорошо и уютно в своей светлице. Сидит она и шьет бельецо для крошечного – крошечного тельца, и мурлычет про себя песню или за пяльцами вышивает хитрым узором дорогой покров и думает: «Как вернется с войны Михаил, упрошу его, чтобы он пелены эти к себе в усадебную церковь отдал».
И никого ей не надо.
Наведается к ней мать.
– Что ты, Людмилушка, все одна да одна?
– Мне хорошо, матушка.
– Все же хоть бы девок позвала. Смотри, как Степанида ладно сказки сказывает. Умора!
– Не хочу, матушка. Мне одной со своими думками всего веселее!
– Ну, и сиди так, коли нравится, – с неудовольствием замечала мать и шла в избу к Ермилихе.
Собирались туда и девки. Ермилиха и дворянская вдова тянули наливку, а девки пели им песни. Шум и веселье, а у Людмилы тишина и покой, что в монастырской келье.
Раз сидела так Людмила, думая о своем любимом князе, а потом, улыбаясь своим мыслям, подняла глаза – и замерла на мгновенье. Пред нею стоял ненавистный ей Ахлопьев и нагло улыбался, в то время как глаза сыпали искры.
– Что, сомлела? – насмешливо заговорил он. – Думала, полюбовник пришел. Ан это я.
Людмила быстро встала.
– Уйди отсюда! Как ты вошел сюда?
– Двором, лебедь, двором. К бесстыдным девкам дорога всем открыта! Небось, ты вздумала укрываться, а худая слава бежит до самого порога. Да не с мошной я пришел к тебе, распутница, а пришел я ответ искать! – И с этими словами он резко шагнул к ней. – Что ты со мной сделала?
Людмила быстро отскочила в сторону и распахнула слюдяное окно.
– Матушка! Мирон! Девушки! – раздался ее пронзительный крик.
– Убью, паскуда! – кинулся на нее Парамон, но в тот же миг сильная рука Мирона рванула его и опрокинула навзничь.
– Ах ты, пес непотребный! – крикнул богатырь. – По светлицам лазать! Я ж тебя! – И, не дав опомниться Парамону, он волоком потащил его вниз по лестнице, куда бежали мать Людмилы, девушки и Ермилиха.
Шерстобитова вгляделась в Парамона и завопила:
– Ах, разбойник! Ах, оглашенный! Он это с убивством пришел… не иначе!.. Бейте его, девки, бейте окаянного! – И нагнувшись, она провела острыми ногтями по его лицу.
У Парамона из щеки брызнула кровь.
Она опьянила всех!
– Бейте татя! Бейте разбойника! – завизжала Ермилиха.
Мирон приподнял Парамона и выбросил на двор. Девки ухватили кто веревку, кто палку, и на Парамона посыпались несчетные удары. Окровавленный, в изодранной одежде, он едва вырвался от них и бросился бежать.
– Пса спусти, Мирон! – кричала Ермилиха.
Парамон обернулся, потряс кулаком и быстрее пса пустился по лесу.
– Го – го – го! – диким голосом кричал ему вслед Мирон. – Приходи за остатним!..
– Приду, небось! – побледневшими губами шептал Парамон, подходя к Коломне темною ночью.
Ненависть, ревность создали в его душе ад. Только кровавая месть могла смыть всю обиду его поруганной любви, и он надумал страшное дело.
Три дня спустя после рассказанных событий, собрался он в путь – дорогу и в одноколке, несмотря на осеннюю распутицу, затрусил на Москву. Твердо решил он извести всех своих обидчиков и ехать к самому князю Теряеву – Распояхину с подлой ябедой на его единственного сына.
XI
Начало бедствий
Десять месяцев стояли уже русские войска под Смоленском, все теснее и теснее окружая его. Вожди уговаривали Шеина броситься на приступ и взять Смоленск, но воевода упорно отказывался.
– Боярин, – взволнованно сказал ему Измайлов, – гляди, мы в южной стене уже знатный пролом сделали. Пойдем!
Шеин лишь покачал головою и произнес:
– Пролом! Эх, Артемий Васильевич! В те поры, когда здесь стоял Жигмонд, а я за стенами Смоленска сидел, ляхи у меня две башни разрушили, а войти не могли, голодом только и одолели… Пролом!.. Нет, подождем, когда они с голода пухнуть станут.
– Боярин! Невозможно так дольше! – с неудовольствием заявили Шеину иностранцы. – Там всего две тысячи четыреста воинов – ляхов; в один день Смоленск наш будет, а мы ждем, время тратим. Смотри, изнурение какое!
– Недолго теперь, – ответил им Шеин, – еще месяц, и нам ворота откроют!
– Жди! – угрюмо заявил ему князь Прозоровский. – Придет наконец Владислав из Польши и снимет осаду!
– Небось, князь, сумеем и Владислава встретить! – раздражился Шеин и продолжал упорствовать.
Сидя в своей ставке, он иногда бессонной ночью тяжко вздыхал и думал: «Не возьму в толк: вороги вокруг меня али понять не хотят, что я кровь русскую берегу! К чему лить ее, ежели без крови возьмем Смоленск? Ох, люди, люди! Князь‑то Черкасский схизматиком, изменником меня назвал! И он туда же… Да нет! Боярин Шеин не изменял Руси, царям правил; знает меня Филарет Никитич и боронит, а не будь его…» – и при этой мысли Шеин невольно вздрагивал.
Над станом Прозоровского, казалось, разверзлись все хляби небесные. Ветер рвал и стонал, дождь лил не переставая, несмотря на то, что стояли последние дни июля месяца. Выкопанные землянки обратились в мелкие колодцы, ратники вылезли из них и предпочитали оставаться снаружи, чем снова лезть в воду.
Но несмотря на это, во всем русском войске царило веселье, и, казалось, ничто не могло испортить хорошего настроения россиян.
На краю лагеря, у валов, на вышке расположился стрелецкий сторожевой наряд. Подложив под себя мокрое сено, накрывшись зипунами, стрельцы равнодушно смотрели вдаль сквозь чистую сеть дождя и лениво переговаривались.
– Шеин! – с презрением сказал старик. – Нешто это голова? У него сноровка за окопом как кроту сидеть, а чтобы действовать – николи! Помню я, покойник – царство ему небесное! – Михайло Васильевич Шуйский! Тот орел!..
– Дядюшка, – сказал молодой стрелец, – расскажи, как он ляхов бил!
– Ляхов? Всех он бил! Москву очистил! Как соединился это с Делагарди, и пошли мы…
– Дядюшка! Михеич! Гляди‑ка, кто‑то скачет! – перебил его другой стрелец, всматривавшийся вдаль.
Михеич оборвал свой рассказ и обернулся.
– И то! – сказал он. – Ну, вы! положить самопалы!
Двое стражников тотчас установили козлы и положили на них свои ружья.
Действительно, прямо на них скакал всадник. Не доезжая стражи, он замахал шашкою и что‑то закричал.
– Стой! – успокоившись, сказал Михеич. – Ишь, несет его! Стой! Кто? Какое слово?
– Орел! – ответил всадник, соскакивая с коня и вытирая полой кафтана лицо. – Поляки!
Стрельцы сразу всполошились.
– Где? Много?
– Полчища! И не счесть! Смотрите лучше! – И всадник, вскочив на коня, погнал его к ставке князя Прозоровского.
Князь, всегда недовольный Шеиным, сидел в ставке с Сухотиным и Ляпуновым, своими помощниками, и говорил:
– Грех Пожарскому, что уклонился. Был бы теперь и Смоленск наш, и в Польшу в нутро самое забрались бы. А теперь что? Год почитай стоим.
– Голодом, слышь, воевода выморить хочет, – заметил Сухотин.
– Сами, пожалуй, еще голодом помрем!
– Ну, сказал тоже!
– А что же? – вспыхнул князь. – Придут поляки, перегородят реку – и умирай!..
В это время в палатку вошел Алеша Безродный. Вода с него лилась в три ручья, он был весь забрызган грязью.
Прозоровский недовольно обернулся на него.
– Что ввалился? Кто такой?
– Алексей Безродный, сотник над дружиною боярина Терехова.
– Чего надо?
– Поляки идут. Туча!
Князь и его собеседники вскочили на ноги.
– Поляки? Где? Кто видел?
– Я же и видел, – ответил Алексей. – Ездил это я с утра охотиться. На берегу в камыше сижу, а ляхи тут как тут… человек десять. Погутарили и уехали. Я вышел, глянул, а их‑то идет да идет… туча!
Прозоровский взглянул на собеседников.
– Говорил я вам про это?.. Ну, теперь все испорчено. Снимайся, вот что! – Он обернулся к Алеше и сказал ему: – Возьми своих людей человек двадцать и поезжай на разведки. Дознай, много ли ляхов да где станом стали. Языка достань! А ко мне князя Теряева пришли. Знаешь – его?
Алеша вздрогнул.
– Знаю! – ответил он глухо и вышел.
Судьба словно нарочно сталкивала его с князем.
У последнего была построена избушка с печью. Он сидел у стола и разговаривал с Эхе, поверяя ему свои печали, когда в избу вошел Алеша. Князь Михаил встал и быстро подошел к нему, узнав его сразу и говоря:
– А, Алексей, Божий человек, чего хоронился так долго? С чем пожаловал? Садись! Иоганн, давай меду!..
Алеша резко затряс головою.
– Я к тебе с посылом от князя Прозоровского. Тебя он зовет. Немедля!
Теряев отшатнулся.
– Теперь? Для чего?
– Поляки пришли, – ответил Алеша и вышел.
Теряев встревожился.
– Слыхал, Иоганн? Поляки!
Эхе кивнул головой и спокойно сказал:
– Вот драться и будем!
– Я пойду! – произнес князь. – Верно, надо что‑нибудь.
«Поляки пришли!» – эта весть уже облетела весь лагерь и взволновала всех.
– Теперь хоть подеремся! – говорили кругом.
– Хошь не хошь, боярин, а воюй! – усмехались другие.
Князь Прозоровский сказал Теряеву:
– Седлай коня! Скачи к боярину Шеину и скажи, что невдалеке от нас поляки показались. Какой приказ будет? Назад поедешь, заверни к Сандерсону, его оповести… А то нет! – перебил он себя. – К Сандерсону я пошлю другого. Ты назад так же спешно. С Богом!
Спустя пять минут князь Теряев бешеным галопом скакал в лагерь Шеина, до которого было верст пятьдесят по берегу Днепра.
Почти в то же время из лагеря выехал Алеша с малою командою в восемь человек и тихо поехал вверх по Днепру. Был уже вечер. Темнело. Не зная покоя, не находя себе места, Алеша все время проводил на коне, гоняя его по степи, или на охоте, сидя часами в густых камышах. Это шатанье ознакомило его с местностью, где он знал каждую тропку, а потому вечерняя мгла в порученном ему деле разведки была только на помощь. Он медленно подвигался берегом, поросшим мелким ивняком, и вдруг остановился и спешился.
– Слезьте и вы, – тихо сказал своим дружинникам. – Ты, Ванька, и ты, Балда, со мною пойдете. А вы, – сказал он остальным, – ждите! Коли до зари не вернемся, ворочайтесь в лагерь; значит, сгибли мы… Ну, с Богом!
Он подтянул поясной ремень, попробовал нож, легко ли вынимается, и спустился к камышам. Ванька и Балда спустились за ним. Добрый час они двигались в камышах по колено в воде.
Вдруг невдалеке послышался говор; следом раздался глухой, смешанный шум. Алеша тотчас подал знак и высунул голову из камышей. В темноте вокруг и вдоль на всем пространстве, которое мог окинуть глаз, горели костры. Возле них виднелись силуэты людей и коней. Невдалеке от притаившегося Алеши у костра сидели трое. Спутанные кони стояли подле, тут же торчали воткнутые в землю пики, и их наконечники горели красными огнями.
– Всех не убрать! – прошептал Алеша.
Балда замотал головою.
– Я возьму левого, ты правого, а на переднего Ванька навалится, – продолжал Безродный. – Живьем возьмем! Можно?
– Можешь, Ванька?
Ванька только кивнул головою.
– Подожди, кляп сделаю, – пробурчал он, снимая пояс и свертывая его.
– Тогда с Богом! Только разом!
Они легли наземь и поползли как змеи.
Поляки, довольные отдыхом, беспечно болтали и не думали об опасности. Вдали шумел лагерь, впереди расстилалась степь и вилась река; казалось, не для чего было выставлять и сторожевые пикеты.
– Один порядок только! – засмеялся молодой жолнер.
– Для видимости! – подтвердил другой.
– Именно! – начал третий, но тотчас захрипел под тяжестью навалившегося на него тела.
Мокрый и толстый жгут с силою вдвинулся ему в рот. Он упал ничком. В то же время два его товарища извивались в предсмертной агонии, убитые ударами кистеней.
– Вяжи! Тащи! – хрипло крикнул Ванька товарищам.
Перевязанного кушаками ляха Алеша и Балда подняли и потащили камышами к своим коням. Костер горел. Пики, воткнутые в землю, торчали, а спутанные кони храпели и испуганно смотрели на своих корчившихся хозяев.
В то же самое время домчался до главного лагеря под Смоленском и князь Теряев, и привезенная им весть о наступлении поляков словно гром с ясного неба поразила Шеина.
– Врешь! – заревел он, услышав слова Теряева.
Князь побледнел.
– Теряевы никогда не врали, – гордо ответил он, – а теперь я и не свои слова передаю!
– Прости на слове… Сорвалось! – смутился Шеин и тотчас разразился криками и угрозами своим слугам. – Коня! – орал он. – Коня, холопы! Живо!
Дрожащие слуги подвели ему коня.
– Князю! – закричал он снова.
Теряеву тотчас подвели свежего коня.
– Скачем! – И Шеин вихрем помчался в лагерь Прозоровского.
Прозоровский вышел ему навстречу.
– Боярин! – сказал он. – А тут мне и языка добыли. Сразу все и вызнаем!
– Где? – быстро спросил Шеин.
– А тут! – И Прозоровский провел главнокомандующего на зады свой ставки.
На расчищенном месте у слабо горевшего костра стояло несколько стрельцов и между ними приведенный Алешею жолнер со связанными назад руками. Его красивый алый жупан был изорван и весь испачкан грязью, лицо исцарапано, распустившийся чуб висел растрепанною косою.
– Этот и есть? – спросил Шеин и, подойдя к ляху, быстро заговорил по – польски: – Откуда ты и чей? Много ли вас пришло? С вами ли король?
– Ищь ты, как лопочет по – ихнему! – перешепнулись стрельцы и стали ждать ответа ляха.
Но жолнер молчал.
– Прижгите ему пятки! – приказал Шеин.
Стрельцы быстро разули поляка. Один из них взял головню, другие подняли поляка на руках, и горящая головня с тихим шипением прикоснулась к обнаженным подошвам. Поляк закричал не своим голосом:
– Все скажу, панове! Честное слово, все, как есть…
Шеин махнул рукою. Поляка отпустили.
– Ну, говори, как звать тебя и кто ты?
– Ян Казимир Подлеский, улан из Радзивиллов!
– Много вас?
– Тысяч двадцать есть, и еще сегодня к нам пришли казаки, тысяч пятнадцать.
– Кто у вас главный?
– Король Владислав с нами.
– Еще?
– Генералы: пан Казановский, ясновельможный пан Радзивилл, Казиевский, Песчинский, Данилович, Воеводский…
Шеин круто отвернулся от поляка и вошел в ставку Прозоровского. На лице последнего светилась злая усмешка.
– Что же, – решительно заговорил Шеин, – мне с ляхами не впервой биться. Их тридцать пять тысяч, а нас сорок, да немчинов шесть, да казаков десять. Управимся!
– Надо битву дать, – сказал князь.
– Это зачем? Пусть они на нас лезут. Мы, слава Богу, в окопах!
Прозоровский пожал плечами и произнес:
– Если они соединятся со Смоленском, мы будем промеж их как в клещах.
– Не дадим соединиться. Ну, да с тобой не столкуешься. Ты ведь, князь, за Черкасского, – гневно перебил себя Шеин. – Приезжай завтра ко мне. Я всех соберу. Столкуемся!..
Брезжил рассвет, когда Шеин оставил ставку Прозоровского, а вскоре за ним отъехал и князь, оставив лагерь на Ляпунова и Сухотина. Те то и дело высылали разъезды, и почти каждый привозил с собою языка, а через него они узнавали, что Владислав решил пройти в Смоленск и выручить осажденных.
Поздно вечером вернулся Прозоровский темнее тучи.
– Что? – спросили его товарищи.
Князь махнул рукою.
– Ждать будем, пока поляки на нас насядут!
– Ну?!
Князь развел руками.
– Видит Бог, в ум не возьму, что наш воевода – голова думает. И Измайлов за ним! Как кроты в норе!.. Нас пятьдесят тысяч, а ляхов и сорока нет.
Князь Теряев горел весь в нетерпении боя. Он созвал свое ополчение и сказал ему:
– Помните, ребята, умирать один раз. Так будем умирать с честью!
– Да уж постараемся, князюшка! – добродушно ответили его ополченцы.
Потом он пошел к Аверкиеву и сказал ему:
– Иван Игнатьевич, честью прошу, коли где жарче будет, пошли меня!
Аверкиев засмеялся.
– Ладно, ладно! В самое пекло пошлю. Ужо попомнишь.
На другое утро по всему лагерю раздался тревожный звон литавров. Все быстро повыскакивали из своих землянок.
Теряев вскочил на коня и вывел свое ополчение.
– Бой?
– Будет! – спокойно усмехнулся Эхе.
Рядом с князем Теряевым выстроилась дружина Алеши. Князь весело кивнул ему, но Алеша отвернулся в сторону.
«Ах, и за что он не любит меня?» – с обидою подумал князь.
А кругом шла суета. Аверкиев строил конницу и летал на коне из конца в конец лагеря, стрелецкие головы равняли свои полки. Потом все стихло.











