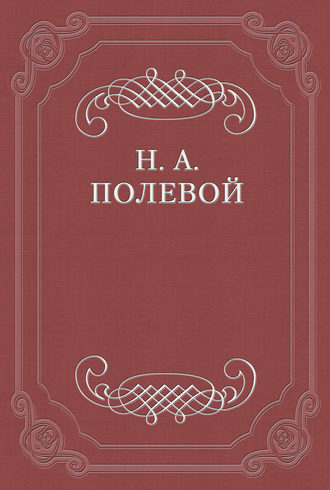 полная версия
полная версияКлятва при гробе Господнем
– Я не привык поступать так, князь Димитрий Юрьевич! Благословясь и подумавши начинают такое важное дело…
«Да, разве не благословение Господне святое чувство это, которое ощущаю я в сие мгновение к твоей дочери? Не показывает ли оно, что Бог соизволяет на мое счастие? Осталось за нами, за людьми! Чего еще тебе надобно? Послов, сватов? А! так и ты подвержен человеческим слабостям, тщеславию, гордости? А я думал видеть в тебе совершенного человека!»
– Един Бог совершен; но ты грешишь, князь, и обвиняешь несправедливо старика, которого хочешь назвать отцом своим.
«Будь же им, будь – я забуду тогда имя князя!»
– Сядь, сядь, любезный князь мой! – сказал Заозерский, усаживая насильно Шемяку. – Говорю тебе: дай мне опомниться, одуматься…
«Тут нечего думать, повторяю тебе – если ты не князь только, а точно человек».
– Но ты князь столь великого рода: у тебя есть родня, есть друзья… Их мысли…
«Нет у меня никого – ты видишь сироту, у которого нет ни отца, ни матери: этот сирота пришел к тебе и просит тебя быть отцом его. Что тебе до моих родных!..»
– Дай мне сроку… хоть на три дня.
«Прощай, князь! стало быть, ты не отдаешь мне своего неоцененного сокровища!»
– Хоть немного подумать…
«Три дня! Да переживу ли я эти три дня? Я лишился пищи и питья, сна нет, голова кругом, а он на три дня откладывает, как будто судное дело, по которому справки собирать надобно! Ох, ты, человек праведный! Диво ли, что ты был всегда добродетелен, если ты не знал ни одной страсти человеческой, если ты никогда не испытывал и этого проклятого чувства, которое хуже ада, которое на мученье людское на белом свете…»
– А давно ли называл ты любовь свою благословением Божиим? – Заозерский улыбнулся.
«Не смейся надо мною, князь! Сам я всегда смеялся над зазнобами и ахалками – почитал это бабьим делом. Да, никто же и не любил так, как я! Где тебе знать, как любят!»
– Нет! я знаю его, это, и горестное, и сладостное, чувство, хотя не испытывал его столь сильно, как ты. Добрую подругу свою знал я с малолетства и любил ее, сначала как сестру, а потом Бог привел ее быть мне супругою, и – счастлив, счастлив был я с нею!
«Тебе дорога память ее?»
– Ее память? И теперь, хоть уже много лет она в сырой земле… эх! не напоминай об ней! – Слезы покатились в два ручья у старика, и он закрыл глаза рукою.
«Нет! нарочно напоминаю: ее памятью, если ты еще помнишь ее, заклинаю, молю тебя, князь, добрый мой князь!» – Заозерский обнял Шемяку и, целуя его в пламенные щеки, сказал, усмехаясь сквозь слезы:
– Но, ты все еще не сказал, чего ты желаешь?
«Руки твоей Софьи Дмитриевны, ее одной! Князь! не мучь – скажи мне!»
Заозерский обнял его еще раз и тихо проговорил: «Она твоя – твоя на веки веков!»
Невольно упал на колени Шемяка и целовал руку старика. Обратив глаза к образу, Заозерский проговорил: «Боже великий, неисповедимый! Во имя Твое, святое, да будут они благословенны! Сократи дни мои и предай им долгоденствия; возьми мое счастье и отдай его им! Князь Димитрий Юрьевич! отдаю тебе дочь свою милую, блюди ее, храни ее!» Он благословил Шемяку. – С радостным кликом обнял его Шемяка. «Отец мой!» – «Сын мой!» – слышны были их восклицания.
Плакал Заозерский, обнимая Шемяку, плакал он, сев подле него на скамью и тяжело дыша. «Судьбы Бога тайные, – сказал он наконец, – думал ли я, отводя сына моего во храм Господа, что там ожидал уже меня сын, Богом ниспосылаемый в замену того, которого жертвовал я Господу?.. Но, нет: сердце мое вещало мне с первого на тебя взгляда, что ты мне не чужой!»
– И мне, – сказал Шемяка. – Говорю тебе, что мне казалось с первого раза, будто ты мне родной. Грусть непонятная и радость какая-то тревожили меня. Но когда увидел я твою Софью – все разрешилось, и я сказал сам себе: вот моя суженая! Моя! ох, отец мой – моя? не правда ли?
«Да, да! Сбил ты меня с толку – ей, ей! какой человек – я и сам не опомнюсь… Да, как все это сделалось!»
– Он у меня спрашивает! Да, я что могу растолковать тебе?
«Довел меня Бог видеть дочь мою невестою князя Димитрия Юрьевича, о котором столько говаривали у нас. Что теперь скажут большие князья и знатные люди? Князь! опрометчиво поступили мы, не подумали – меня станут осуждать и тебя… Нам надобно было обо всем этом раздумать…»
– Думай отныне за меня ты! я твой сын и от всего отказываюсь. Не внук Донского, но простой углицкий князь будет зятем твоим… Пойдем же к ней, отец мой! пойдем к ней поскорее!
«Как? Погоди до вечера; дай собраться; мы вас благословим и тогда посидим рядком и полюбуемся на вас».
– Ждать еще? До вечера? Нет, нет, отец, родитель мой! сжалься надо мною – дай мне хоть взглянуть на нее…
«Знаю я это взглянуть! – сказал, усмехаясь, Заозерский. – После, после!»
– Нет! теперь, пойдем, пойдем к ней, – Шемяка тащил его за руку.
«Эдакая горячка! Погоди, говорят!»
– Безжалостный человек! ты нагляделся на нее с малолетства, а я только раз видел ее, и после того прошло три дня!
«Да, ведь теперь она не в приборе: ты разлюбишь ее, ненарядную, увидевши днем. Она и не выйдет к тебе – она такая упрямая, своенравная – по мне пошла!»
– Отец! ради Бога Создателя!
«Вот ведь с этой молодежью – свяжись, так и не рад будешь! Да, меня-то за что ты обнимаешь, голова удалая, сердце ретивое? Я Софья, что ли?»
– Ты отец мой, ты мой спаситель!
«Постой же, я велю хоть позвать ее из терема к себе – постой – видно, от тебя не отбиться!»
Заозерский пошел. Шемяка остался один. Ему казалось, что земля горит под его ногами. Он задыхался он жара и подошел к печке, пощупать: не слишком ли печка была натоплена в этом покое. Но печку в этот день еще и не топили… Время летело. Шемяка терял терпение. Он хотел уже идти к Заозерскому, когда старик дворецкий вошел и, радостно усмехаясь, сказал: «Князь Димитрий Васильевич ждет тебя, князь Димитрий Юрьевич».
Холод пробежал по телу Шемяки от этих слов. Он побледнел, хотел ступить ногою и не мог. Дворецкий в испуге подбежал к нему. «Ничего, ничего, добрый старик – от счастья не умирают!» – сказал Шемяка.
Счастливец!.. Смеешь ли роптать, ты, бедный человек, на бытие свое, если Бог украшает жизнь твою такими минутами, такими перлами счастия!
Поспешно пройдя до молельной князя Заозерского, Шемяка остановился. Дворецкий отворил дверь: там стоял Заозерский, старик боярин его, князь Шелешпанский, и старая няня – подле нее стояла София, бледная, как полотно.
Испуганный ее бледностью, Шемяка вошел робко и остановился. Заозерский стал на колени перед кивотом, где находились в богатых ризах образа, и начал молиться. Все преклонили колена, и Шемяка следовал примеру других, сам не чувствуя что делает.
После трех земных поклонов Заозерский встал. София хотела подняться, но не могла. «Дочь моя милая», – сказал ей Заозерский. Яркий румянец показался на щеках ее, и она поспешно встала. «Дай мне твою руку», – продолжал Заозерский. Как будто лихорадка била Софию. Она опять побледнела и вся дрожала.
С неизъяснимым чувством радости, горести – нет! ни радости, ни горести – смотрел на нее Шемяка и без мыслей промолвил: «Княжна! родитель твой согласен на мое счастье, но ты…»
Глаза Софии обратились к нему и слезы, как крупный жемчуг, посыпались с ресниц ее. Она готова была лишиться чувств. Няня поддержала ее.
– Князь Димитрий Васильевич! – сказал Шемяка, – неволею только татары берут. Если княжна…
«Давайте мне ваши руки!» – отвечал Заозерский, со слезами на глазах и с улыбкою на устах.
София протянула руку, Шемяка тоже сделал, и ему показалось, что огонь пробежал по всему телу его, когда рука его коснулась руки Софии. Сложив руки их вместе, Заозерский проговорил: «Бог да благословит вас! Живите и веселите нас, стариков!»
Схватив руку Софии, Шемяка устремил взоры свои на глаза ее. Жарко вспыхнули щеки ее; она скрыла лицо свое на груди няни.
«Княжна, княжна! одно слово из уст твоих! Одно твое милое слово!»
– Полно, князь, – сказал Заозерский. – Девичьи слова дороги – их не скоро добьешься.
«И, матушка княжна! полно совеститься: ведь уже князь Димитрий Юрьевич теперь твой суженый, С Божьего и с родительского благословения!» – говорила няня.
– Нет, княжна! скажи мне, скажи, если я тебе не нравен, если ты не любишь меня… – говорил Шемяка, не опуская руки Софьиной.
«Да, скажи ему, родная!» – говорила няня, усмехаясь. София что-то пробормотала няне. – «Что говорит она?» – воскликнул Шемяка.
– Да, что говорит: я уж его и во сне сегодня видела! Вот что говорит она.
Напрасно София хотела загородить рукою уста нескромной няни: слова были сказаны; тайна ее открылась. Безжалостная старуха отодвинулась от нее, и София осталась одна, выданная страстным взорам Шемяки, с раскрасневшимися щеками, на которых бледность не смела уже появляться. София не знала, куда ей скрыться от людей, не смела поднять глаз. Шемяка любовался ею и не отваживался к ней приблизиться. Заозерский, няня и Шелешпанский смотрели на них улыбаясь.
«Ну, коли так, то о согласии ее и спрашивать нечего. Кто во сне девичьем мерещится, тот наяву любится. Да впрочем, ведь я ее не принуждал; она добровольно сказала мне: Да! Не правда ли, Софья?»
– Да, – прошептала она, едва внятным голосом. Шемяка – не говорил ни слова.
«Ну, поздравляю тебя, князь Димитрий Юрьевич: ты такой же молодец бить врагов, как уговаривать стариков и завоевывать сердца девушек. Поздравляю тебя!»
Заозерский обнял Шемяку. Шелешпанский рассыпался в поздравлениях после того, наговорил даже много и такого, отчего щеки невест горят ярче. Старики наши любили шутку и позволяли себе быть нескромными в шутках при таком случае. Дошла очередь до старой няни: весь сказочный набор приветствий рассыпала она, уподобляя невесту бурмитской жемчужине, белой лебедке, светлому месяцу, а жениха камню самоцветному, ясному соколу и светлому солнышку. «Да, я уж предвидела, – продолжала болтливая старуха, – что этому быть, когда с подноса княжны чарка упала, как она подносила здоровье князю Димитрию Юрьевичу. Дай вам, Господи, любовь да совет, мир да привет на тысячу лет. А теперь вам надобно, по нашему обычаю, поцеловаться. Поцелуй, как замок, два сердца смыкает, и после него уже нельзя воротиться, да и не захочется: так тебя и тянет к любимому человеку, которого хоть один раз в жизни поцеловал!»
Легко прикоснулся губами своими Шемяка к ротику Софии. «Княжна! – сказал он ей, – на земле ли я, или уже в раю небесном?» Взгляд, брошенный украдкой, взгляд нежности, заботы, замешательства, был единственным ответом Софии.
Долго хотел бы Шемяка пробыть в этом сладостном забвении самого себя, но Заозерский напомнил, что пора расстаться. Счастливец теперь имел уже довольно сил исполнить повеление старика. Заозерский и Шемяка встретили толпу бояр и дворян в большой комнате. Они собрались радостно приветствовать своего князя, поздравлять Шемяку и потом спешили готовиться к вечеру. Шемяка ушел в свои покои; ничего не говорил он о своей невесте с сопутниками – с ними не хотел он говорить – и Чарторийский и Сабуров проклинали Заозерского, думая, что их время уже миновалось. Так поступают все угодники страстей своего повелителя, если видят, что он разрывает ничтожный плен их. К вечеру весь дворец был освещен. Богато одетый, цветущий радостью явился Шемяка и казался первым красавцем в кругу придворных князя. Он в самом деле похорошел в несколько часов: время красит, безвременье старит. Вывели невесту, со всеми обрядами, в дорогом убранстве и, по прочтении молитвы священником, благословили дедовским образом жениха с невестою. Тогда мог Заозерский полюбоваться, видя рядком милую дочь свою с юным ее женихом. Пошли кубки по рукам. По странному смешению религиозных обрядов с житейскими обычаями, едва благословили невесту, и едва священник раскланялся, едва прошли слезы умиления и благоговение на лицах присутствовавших, во дворе княжеском застучали в медные тазы и железные сковороды, старики пустились в шутки и прибаутки, и хор девушек, подруг княжны, призванных к ней с обеда и разряженных, запел свадебные песни. Хотите ли знать их?
Не лежи, черный бобр, у крутых берегов,А черна куница возле быстрой реки;Не сиди, князь Димитрий, во чужом пиру,Князь ты Димитрий Васильевич;Снаряжай свадебку молодой княжны.Молодой княжны Софьи Дмитриевны!– Глупые вы люди, неразумные!Уж у меня свадьба снаряжена,Девять печей хлеба напечено,Десятая печь витых калачей,Витых калачей с завитушками;Девять поставов браги наварено,Десятый постав меду крепкого;Уж у меня приданое изготовлено!Девять городов, с пригородками,Девять теремов, с притеремками.* * *На заре рано, на утренней,На восходе красного солнышка,На закате светлого месяца,Не от ветра, не от вихоря,У князя Димитрий ВасильевичаУчинилась беда великая:Вода на дворе возлелеяла,Три кораблика уплыло —Первый с червонным золотом,Второй со светлым серебром,Третий с красною девицею,С княжною Софьею Дмитриевною.Не жаль мне червонного золота,Не жаль мне светлого серебра,Только жаль мне красной девицы:Та у меня была дочь родимая,Дочь родная, дочь любимая.* * *Венули ветры по полю,Грянули веслы по морю;Ходит княжна в высоком терему,Княжна Софья Дмитриевна,То подумаешь, то раздумаешь;С кем бы мне думушку придумавши,С кем бы мне крепкую раздумаши?Думать думу с родным батюшкой —Та ей дума не верна, не крепка,Те словеса ей не понравились;Думать думу с одной матушкой —Та ей дума не верна, не крепка,Те словеса ей не понравились;Думать думу с молодым князем,Князем Дмитрием Юрьевичем —Та ей дума верна и крепка,Те словеса ей понравились.Так пели подруги княжны, пока старики и гости чокались кубками и шумели; жены князей и бояр сидели неподвижно, а жених наговаривал невесте речи любви и счастия, держал ее белую руку в своих руках и иногда, украдкою, целовал ее румяные щеки и нежный ротик. Ужин был сытный и – пьяный. Расставаясь, при громких песнях, София сама поцеловала Шемяку, когда старики обнимались и, с шумом прощаясь, клялись в вечной любви к Заозерскому и в непременном счастии жениха и невесты. Как ни тщательно старались дворецкие Заозерского помогать гостям убираться домой, однако ж двоих нашли потом в углу, забытых. С трудом могли уверить их, что они расположились спать не дома. Один послушался и скоро побежал, когда объявили ему приказ супруги его; у другого совсем пропал хмель, когда нарочно стали говорить подле него, будто у соседа его, в прошедшую ночь, вытащили скрынку с деньгами из кладовой.
Три дня, каждый вечер, продолжались подобные гулянки. Радовались все подданные князя; приезжали поздравлять его даже все монахи из Каменского и Куштинского монастырей. На четвертый день угощали обедом их и духовенство, а простому народу выкатили целые бочки браги. Невеста являлась только по вечерам; днем была она невидима, и только жениху позволялось утром, на минуту, являться в ее терем. Шемяка забывал весь мир. Пора было миру сказаться счастливому князю: он был слишком счастлив!
Глава IV
Тюрьма ты моя, тюрьма крепка!
Пошире ты гробовой доски,
Да тяжеле ты ее в сотеро,[152]
Подлиннее ты домовища дубового,
Да теснее в тебе молодцу удалому!
Старинная песня– Ну, великий господин, властитель всех бесов на свете! говори: правда ли это? – спросил боярин Старков, поспешно вставая, едва Гудочник вошел в комнату; боярин сидел в это время за столом, держа в руках большую оловянную кружку. «Правда», – отвечал Гудочник, усмехнувшись.
– Не иму веры, дондеже не… – боярин не пригадал, как окончить ему свою духовную пословицу.
«Дондеже не положу железы на руце и нозе его, и не упрячу буйной его головы в каменный мешок», – прибавил Гудочрйк.
– Воля твоя, старый хрен – это невероятно, этого не может быть! Повтори, что ты говорил мне?
«Глупость людская, особливо когда в дело вмешиваются бабьи глазки, всегда вероятна и вернее ума. Пожалуй, повторю: прежде я говорил тебе верные вести, что Шемяка хочет ехать сам в Москву; потом, что он едет; теперь говорю, что он скоро к тебе появится и что ты должен встретить дорогого гостя с подобающею честью, потому, что за этим именно послан ты сюда от Великого князя Василия Васильевича».
Старков крестился обеими руками: «И это точно подтверждается?»
– Боярин! есть всему мера – и вере и неверию. Сейчас прискакали расставленные по дороге ближние гонцы: Шемяка скачет за ними и прямо сюда, в село Братищи, где ты и я ожидаем его.
«Он помешался!» – сказал Старков, усмехаясь жалостливо.
– Нет! когда женится, то помешается, а теперь только дуреть начинает. Не знаю, однако ж, боярин, что тебе тут кажется непонятно! Я рассказывал уже тебе, что Шемяка засватался в таком семействе, где чарки не выпьют без земного поклона, а дети с рождения клобук надевают. Старик Заозерский начал увещевать князя, что ему, яко христианину и яко человеку, не годится быти во вражде с Великим князем; что благо смиряющемуся, и что блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся. Шемяка поколебался: ведь у него куриное сердце, скоро переходит и долго не продолжается. Тут и будущий тесть и невеста сильнее пристали к князю; призвали на помощь монахов; будущий тестюшка твердил одно: «Князь! отдаю я тебе мое единственное детище; препоручаю тебе и сына своего. Я стар, не сегодня, так завтра умру; если ты останешься во вражде, отравишь ты последние часы моей жизни, заставишь ты меня при дверях гроба думать не о спасении души, а о мире, где покину я тебя и дочь на произвол мирской бури. Да не зайдет солнце во гневе нашем…» Ну, и прочее, и прочее. А пока говорил это Заозерский и подговаривали ему монахи, молодая невеста прижималась к горячему сердечку жениха, роняла жемчужные слезки и только шептала: «Если любишь меня – помирись с Великим князем!» Эти слова – немного их было, да сильно отзывались они в сердце Шемяки: «Я не враждую, я давно простил московского князя. И теперь, когда я так счастлив, могу ли иметь на кого-нибудь злобу? Но Великий князь притворщик, хитрец, лукавый человек. Он ничему не поверит, когда в то же время брат мой сбирается на него войною. И могу ли я отдать ему брата головой?» – «Злые люди разлучили всех вас – не выдавай брата, но помири их: не может быть, не люди будут они, брат твой и Великий князь, когда ты изъяснишь брату своему всю невозможность борьбы с Москвою, когда Великий князь увидит в то же время твое доброе расположение. Они взаимно уступят друг другу, и мир процветет в потомстве Димитрия Донского! С каким весельем тогда встретим мы тебя, миротворца братьев, победителя не мечом, но словом честным и добрым!» – «Княжна Софья Дмитриевна! узнай, как я люблю тебя, как слушается твой жених твоего родителя: я еду завтра же и – прямо в Москву!» – вскричал Шемяка. Побледнела, задрожала молодая княжна-невеста. – «Да! в Москву! – продолжал Шемяка. – Если приступать к чему, так приступать душою и сердцем немедля, прямо, искренно. Я еду в Москву: звать на свадьбу мою брата моего Василия Васильевича, со всем его великокняжеским двором. В Угличе все у меня готово: терем светлый, мед сладкий, пиво крепкое – отправляйтесь туда; верно, вы застанете уже там брата Димитрия – я привезу с собою брата Василия Юрьевича и Великого князя, или приеду сказать вам: я простил его, но мира между ними нет! Я смирялся; но он питает вражду, семя диавольское. Тогда, да судит Бог виноватого!» – Предприятие Шемяки не на шутку испугало всех. Но таково свойство у этого князя: если он на что решится, то предается этому решению душою и сердцем… Рассказывать ли тебе, боярин, как после того расставались, плакали? У меня были там, в Заозерье, такие приятели, которые ни одного словечка не проронили и, может статься, наперед подсказывали многим, что надобно было говорить.
Старков качал головою: «Знаешь ли: ведь я не поверил было ушам своим, когда Великий князь призвал меня и сказал, куда и зачем меня отправляют?»
– Ты изумился, кажется, боярин, когда и меня увидел и когда Великий князь велел тебе поступить согласно тому, что я скажу?
«Признаюсь и в этом. Как мне было и не изумиться, если ты сам не забыл, с какой поры не встречались мы с тобою? Хоть ты и уверяешь, будто тогда не ты, но какое-то демонское наваждение обморочило всех нас – однако ж… хм!.. садись-ка, крестный батюшка, который благословил воевод московских в дураки, – примолвил Старков, указывая место Гудочнику, – садись и растолкуй, где пропадал ты с тех пор, что ты поделывал и как ты успел из притоманных друзей покойного старика Юрия сделаться таким другом нашего Великого князя? Не слишком-то доверчив наш князь Великий, и не надивлюсь я, как умел ты попасть к нему в такую великую милость!»
– Не всякий тот друг, кто с тобой брагу пьет; не всякий ворог, кто на тебя с мечом идет. А сверх того, боярин, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Светило сегодняшнее солнце – мы на нем онучки сушили; засветит завтра другое – мы будем сушить на нем. Позволь мне отложить на время дружескую с тобою беседу – от тебя ничего за душою не скрою, но теперь припомню тебе: все ли у тебя исправно и готово для встречи дорогого гостя?
«Да, да, я так изумился последней вести, что я забыл об этом. Распоряжено все; да, только надобно присмотреть за народом, так ли все сделано. Право, изумился я, и все было забыл…»
– Изумляться ничему не надобно, – ворчал Гудочник, – даже и тому, что ты поумнеешь. – Он проводил глазами Старкова и задумавшись сел на лавку.
День вечерел, становилось темно, как бывает темно в душе человека, когда он замышляет злое. Прискакал еще гонец и сказал, что Шемяку оставил в пяти верстах. Старков и бывшие при нем московские чиновники выехали за село. Несколько воинов стояло на почетной страже, близ избы, где назначен был ночлег Шемяке. Жители села толпами высыпали в поле. Все радовались, казалось, прибытию дорогого гостя.
Шемяка был охотник до скорой, лихой езды. По дороге, повсюду, от самой границы Великого княжества до Москвы, приготовлены ему были подставные щегольские тройки. Шемяка ехал с малою свитою, с Сабуровым и Чарторийским. Только пыль снежная взвивалась из-под копыт лошадиных, и множество колокольчиков на дугах звенело и гудело издалека.
Увидя Старкова, Шемяка остановился. Ласково, весело выслушал он приветствие боярина, поклон от Великого князя и приглашение отдохнуть в Братищах, где изготовлен был сытный ужин. Сани привернули к ночлегу.
Шутливо, приветливо поздоровался опять Шемяка со Старковым, не заметив его смущения; ужин был готов. Налив первую чару, Шемяка поднял ее высоко и выпил за здоровье Василия Васильевича,
– Позволь спросить, князь Димитрий Юрьевич, доволен ли ты доныне своим путем-дорогою; исправна ли была езда, добры ли были ночлеги? – сказал Старков.
«Я лично стану благодарить брата моего, Великого князя, – отвечал Шемяка, – и никогда не думал я, чтобы можно было до такой степени приложить старание угодить гостю. О, надеюсь отплатить за это на свадебном пиру своем! Садись, боярин, садитесь все – по-простому, по-дорожному».
Начался ужин, и русское разгулье развеселило сердца всех. Шемяка не утерпел: он пересказал Старкову, как хороша, как разлюбезна его невеста; с громким кликом осушены были кубки за ее здоровье.
– Ну, Чарторийский, видишь ли, что заяц по-пустому перебежал нам дорогу, при выезде из Кубены? – сказал Шемяка, оставшись с ними наедине. – Завтра мы в Москве, и не знаю, что-то говорит мне, будто с завтрашнего дня начнется истинное мое счастье! Такое веселье бывает недаром – давно не был я так весел и доволен.
«Кем, князь: собою или другими?»
– И собою и другими. Вижу, что правда светлая побеждает все и всякого: и самый подозрительный брат мой, Великий князь, не смеет не уступить доверчивому желанию добра и мира, которое ведет меня в Москву. Он чествует и принимает меня, как дорогого своего гостя, ждет не дождется и высылает на дорогу встречать и угощать. Я худо было поверил ласковому поздравлению, которое прислал он мне в Заозерье. Недоверчивость, чувство неприязни отравляли все часы моей радости. Будущее темнело передо мною, как туча осенняя. Теперь все ясно – и в сердце и в судьбе моей. Что ты кряхтишь, Чарторийский? Аль жесток тюфяк разостлали тебе хозяева наши? – спрашивал Шемяка, беспечно протягиваясь на мягком тюфяке своем, покрытом медвежьею кожею.
«Нет! мягко лежать, князь, да под голову лезет жесткая дума».
– Еще сомнения? Или ты боишься в самом деле кубенского зайца.
«Нет! я никогда, ни в чем не сомневаюсь, князь, потому, что никогда не думаю о завтрашнем дне, но, признаюсь тебе…»
– Что?
«Не нравится мне твоя поездка в Москву. К старому врагу надобно ходить, как в берлогу медвежью, с рогатиною в руках. Не любится мне, что ты явишься у него, как слуга его, когда мог бы его позвать к себе, как ровню. Я, на твоем месте, поехал бы в Дмитров к Василию Юрьевичу и оттуда звал бы на свадьбу Великого князя. Там надежнее мириться, где, слыша недоброе слово, можно ухватиться за бердыш… Впрочем, так что-то вздумалось мне говорить тебе… Поздно робеть, когда до Москвы остался один переезд».









