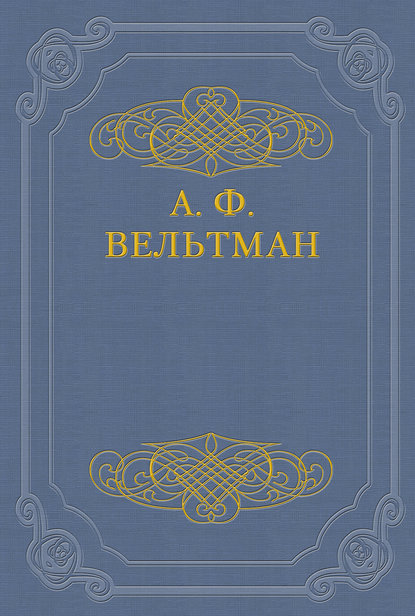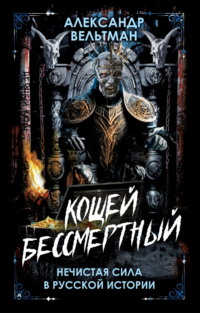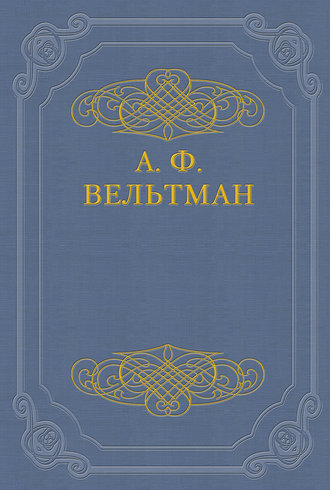 полная версия
полная версияКощей бессмертный. Былина старого времени
Сон не смежил очей его, он перетянул себя светлым поясом и пожелал иметь подле себя рассказчика былей и небылиц.
– Что прикажешь поведать тебе? – произнес почтительно голос невидимого.
– Усыпи меня рассказом: как побрат мой Хорев поехал с росстани и не возвратился? где он был и где теперь? что он делал и что делает?
– Изволь слушать, – отвечал голос и начал говорить как по книге:
«Только что отъехал Хорев с росстани, напали на него мурые[176] Печенеги, пленили и продали в рабство Скотану, Гуннскому мужу, Царскому Думцу.
Скотан полюбил его и повел в дар своему Царю Аттиле, который шел тогда из Греции, в столицу свою.
Когда пришел Хорев в Царскую палату, Царь сидел на резном пристольце,[177] в простом кожухе, с непокрытою головою, с длинным посохом в руках; перед ним стояли великие мужи; он судил с ними про посольство Греческого Царя Феодосия.
– Еже глаголять мъ,[178] – говорил он, – гора пременит место, вольном веру имать тому, еже глаголят мъ: человек нрав пременил, не имам веры!
– Феодосии пише книгу к тэ и тъ[179] здравить и тъ хвалить! – отвечали ему мужи.
– Хвала их не требна мъ; требна правда и дань; не подадут, ускорю, нападу на них, пойму Фракию!
Увидев Хорева, Царь обратился к нему и спросил:
– Откуда отрок сей?
– От Теплого моря, – отвечал ему Скотан, – приехал служить тебе верой и правдою! Он храбр и умен.
– Удатность поведа се в сече, разум в гневе, другованье в нужде. Дайте ему моего хлеба. Нравен будет хлеб, будет верен.
Хорева повели вон из Царских палат; дали ему хлеба, жареного творогу, баранины, меду и квасу.
На другой день Хорев назначен был ехать с посольством Греческим, с сановником Максимином, писцом его Присном и иными людьми.
За Дунаем посольство назначено было идти левою дорогою, шедшею чрез владения брата Аттилы, Влада, с тем чтоб послы Греческие принесли дары жене его, которая там жила.
От Дуная переправились чрез реки Дрикон и Тишь и потом поворотили влево и чрез несколько дней прибыли к большому месту на озере.
Расположившись лагерем при селении, на другой день послы и Хорев получили позволение представиться Стояче и поднесли ей серебряные сосуды, багр и Греческие сухие плоды.
После сего отправился Хорев с послами прямым путем к Граду стольному на горячих водах. На дороге, встретив послов к Царю Аттиле от Западного Императора, он ехал вместе с ними. Послами были вящшие мужи: Ромул, Примут, Романа иные, и с ним Костан, Думец Аттилы.
На двенадцатый день прибыл Хорев с послами в стольный град.
На возвышенном холме стоял Дворец Аттилы в 30 венцов вышины, строенный на камнях и обнесенный оградою с стрельницами, подле него белая теплица, строенная из Задунайских белых камней.
Послам отвели красные палаты Вельможи Царского, на третий день рано поутру забили в варганы[180] и в бубны, повещая приход Царя.
Вельможи и послы Императорские и весь народ встретили его у городских ворот; подле ворот двора его вышли навстречу девы в белых одеждах под навесами полотняными и провожали его песнями в честь Царю-Отцу. На крыльце встретила его Царица Гримхильда,[181] сопровождаемая своими сенными девушками, и, поклонившись, поднесла ему хлеб-соль и вино. Царь Аттила принял чарку с серебряного подноса, выпил, слез с коня и пошел во Дворец.
Испытав храбрость и великий ум Хорева, Царь Аттила послал его теперь с войском воевать Кавказ…
Теперь он…»
Невидимый не успел еще кончить рассказа, как Волх захрапел. Голос утих.
Спит Волх крепким, но не спокойным сном; мечты кипят в нем; то Хорев, то Кощей, то Словен являются перед ним; дразнят его: Волх бросится за Хоревом – Хорева уже нет, à Словен тянет его сзади за полу; он к Словену – Словен исчез, а Кощеева рука теребит его сбоку за вихор. Мечется Волх во все стороны; враги, побраты его, являются перед ним, как блудящие огни, и мгновенно тухнут. Но мщенье придает быстроты и силы Волху. Вот над синим морем догоняет он Хорева; схватил его, давит крепкими мышцами, но это волна; она уже выхлынула из его мстительных объятий. Он гонится за Словеном, схватывает его за ворот, Словен жжется, пламень пышет Волху в лицо. Гонится за Кощеем, схватил его могучими руками, хочет сдавить, и от усилия трещит у Волха грудь: он давит камень. Мщенье учит Волха хитрости. Вот спрятался он за черную тучу. Крадутся по воздуху Кощей, Хорев и Словен, не видят Волха, ведут между собой совет; а Волх хвать – и обнял всех трех, как железный обруч три огромные сваи, и не знает, что ему с ними делать? Всех трех не сломить и порознь нельзя: разбегутся.
Между тем как Волх бредит во сне мщением, взыгралася буря зельная,[182] исторгает великие древеса, яростно рушит в основаниях храмы и забрала[183] крепкие; взлетает, вьет на высоту бремены и горы великие как плевелы; носится тучными облаками и льется на все как море пламени.
Просыпается Волх; ужас обдает его. Громовые струи бьют в верхний конец его пояса, перекатываются по лучам, из которых он сплетен, и из другого конца текут в землю. Мгновенный страх исчезает в Волхе при уверенности, что он невредим. Чтоб избавиться скорее от бури, втыкает он хохолок птицы бабы в шапку и, обратись в невидимку, мчится между крупными каплями дождя на Кафказ; вот выбрался он уже из-под тучи. День светел, небо ясно. Повсюду тишина; только раздается, близ берегов Ры, военный гром труб и котлов. Видит Волх – идет рать великая Царя Аттилы под предводительством Хорева.
– Увы тебе, побрат мой! – кричит Волх, взвившись над Хоревом как вихрь. – Прирасти ж ты к коню своему, скачи ты до конца дней своих, как от погони, не оглядываясь, не останавливаясь!..
Скачет Хорев и чувствует, ноги врастают в коня, и ужас течет по всем жилам, и очи налилися кровью, и что-то его подгоняет, торопит!
Он мчится; за ним мчится рать.
Мчится Хорев через горы и долы, через лес, через воды и топи, как воин от раны бесславной; мчится за ним и вся рать, как будто гонимая страхом и вражеской силой.
Мчится Хорев без пути, без дороги, без причины, без цели.
Мчатся и воины за ним, но весь след их уже устлан как будто побитою ратью.
Мчится Хорев, как от лука стрела, и никто уж его не следит; он летит, как страстное желание к недостижимой цели, быстро, как жизнь к концу, и исчезает в синеве дали.
А Волх, довольный своим мщением, отправляется на север к озеру Мойску, где живет его побрат Словен.
Наскучив идти, лететь и ехать, Волх катит яйцо птицы бабы по воде близ холма и потока Ярусланова; является ладья; он сел в нее, и два сома понесли его вверх по большой реке.
Чтоб не чувствовать голода, жажды, усталости и прочих телесных недугов, Волх воткнул в шапку свою хохолок птицы бабы – и стал невидимкой.
Все изменилось в глазах его.
Тьмы невидимых простым глазом, подобных ему, летали в воздухе, плыли на водах, носились повсюду, заботливо, торопливо, как люди, то с чувством добра, то с чувством зла, ласки, дружбы, раздора и войны, все было между ними, только не было в устах их глагола, не было шума от движения и звука от битв.
И в воздухе все делилось на две силы нераздельные, но вечно враждующие между собою. Смешиваясь от неусыпного общего волнения, они старались оторваться друг от друга и слиться друг с другом. Но мерцание духов светлых, темных и разноцветных утомило очи Волха, он снял хохолок с шапки; а между тем ладья его неслась быстро. Крылатые сомы рассекали волны Ры, как луч солнца ночную тьму, и вот скоро ли, долго ли примчали его в пространное озеро, откуда река истекала, и остановились.
– Добрый человек! – молвил Волх к идущему по берегу жителю. – Ведаешь ли, онде путь к городу Словенску?
Но добрый человек, рыжий, как огненная лисица, скулистый, как Обр, одетый в смурый кафтан по колено, перепоясанный ремнем, обутый в плетенную из коры древесной обувь, со страхом бросился от Волха.
Волх ухватил его за ворот.
– Стой, лиса! без ответа не пойдешь! Рыжий забормотал что-то не по-людски.
– Немой проклятый! – вскричал Волх, поворотил рыжего лицом на вечер, дал ему толчок в шею и отправился сам на полуночь.
Вот уж приблизился он к какому-то великому озеру; видит на другом конце его светлый град; белокаменные строения, осененные рощами, отсвечиваются в озере.
– Это Словенск! – сказала Волху недобрая мысль. Он остановился, чтоб подумать, как отмстить Словену; вдруг позади его из-за рощи лай псов… Несутся на Волха; за ними скачут охотники.
Псы накинулись уже на него с разинутой пастью.
Волх оробел, схватился за светлый пояс; псы впились в него; Но зубы их уже напрасно ищут места, где бы вцепиться, прогрызть: железная чешуя огромного змея непроницаема.
Чудовище свивается, развертывается, давит, терзает их; визг и вой раздаются по лесу.
Наскакали охотники. Передовые стали жертвою чудовища; остальные со страхом скрылись.
Окровавленное чудовище опустилось в озеро омыть себя.
Это был Волх. Ему понравилось быть змеем; он сохранил в себе только лик человеческий и поплыл вверх по озеру; при впадении в него реки Мутной лежал прекрасный город.
Поселился Волх при устье, как на стороже.
Кто ни подойдет к берегу, всех хватает он и топит в реке.
Ужас распространился по Словенску.
Сбирается народ, сбираются жрецы, приближаются к реке, молятся змею, да помилует их. «Будь нашим богом!» – говорят они ему.
Он не внимает, ловит, давит и топит людей Словенских, требуя Князя Словена.
– Нет тебе нашего Князя! губи лучше нас? – кричит ему народ.
Ловит, давит, топит змей людей Словенских, требует Князя Словена.
Доходит горькая весть до Князя.
Приходит Словен, с ужасом узнает в образе змея лик Волха, старшего брата своего.
– Что требуешь ты от меня, злой Волх? – говорит он ему.
– Тебя! – отвечает ему чудовище.
– Возьми! – кричит Словен; бросается к чудовищу и вместе с ним исчезает под волнами.
Стоит народ в оцепенении; все плачут о Князе своем.
– Нет у нас отца, пойдем к матери нашей! – кричат все; приходят к Княгине Желане, которая жила в загородном тереме, падают пред нею на колени и молят ее царить над ними.
Убила ее весть о бедственной смерти Словена. Вместо ответа народу, она бросается к реке, протекавшей под самым златоверхим теремом, произносит с слезами: «Несите меня волны к Ладу моему!» – бросается в воду и исчезает под волнами; никто не успевает спасти ее.
Плачет народ, проклинает реку Мутную за то, что допустила к себе чудовище, и называет ее Волховом.
Плачет народ на реку Чистую, зачем она унесла Княгиню его, и называет реку в память Княгини Желаною.
По Ильменю-Мойску плач и стон, по всей земле Словеновой горе.
«Кончил два дела, остается третье, конечное», – думает Волх, отправляясь на падучей звезде, которая возгорелась на севере и неслась к югу, оставляя за собой огненную струю. Не успел еще Волх обдумать род мщенья, которое он совершит над преступным Кощеем, звезда рассыпалась над высоким берегом Днепра, и Волх на одной из ее искр спустился на землю близ неизвестного города.
Время уже около полуночи; огонь в высоких теремах тухнет; на стогнах ни души; только крик ночной стражи еще нарушает тишину ночи.
Довечается Волх у сторожей: где живет Кощей.
– Не ведаем, дедушка, – отвечают ему. – Нет в городе сего имени. А есть у нас Кый, зять владыки, размирник,[184] недоброе сердце, черная душа! Живет он на холме, в своих тесовых палатах; поди постучись у ворот его, коли нужно тебе недоброе слово, а милостыню подаст разве только жена его Лыбедь. Если б не она, горе бы целому городу!
– Его-то мне и нужно, – сказал Волх, поблагодарил сторожа и отправился на высокий холм, где стояли резные палаты Кыя.
Кый уже покоится в ложнице, но сон его чуток. Кто-то стучится в косящатые ворота. Кый вскакивает, прислушивается.
– Пусти, добрый человек, на ночь! – слышит он и проклинает сторожа.
Просьба повторяется.
Кый выходит сам, бранит сторожей, что позволяют бродягам стучать в его ворота.
Сторожа не слышали ничьего голоса.
Кый возвращается, ложится, но едва только сдавил он собою пуховую постель, кто-то постучался в красное окно, тот же голос повторяет: «Пусти, добрый человек, на ночь!»
Сердится Кый, проклинает сторожей, выходит на двор – никого нет.
«Это сон», – думает он, осматривает, заперты ли ворота, возвращается, припирает сени, двери и ложится.
Кто-то стучит в сенях: «Пусти, добрый человек, на ночь!»
Кый вздрагивает, встает, идет в сени – сени заперты, в сенях никого нет.
«Это сон!» – думает он, возвращается в ложницу; беспокойство волнует его; но все тихо, глаза его слипаются, и едва только мысли свернулись шаром и прокатились в темную глубь, а память канула на дно…
– Пусти, добрый человек, на ночь! – раздается над его ухом. Со страхом вскакивает он, слышит в доме шум, беготню.
– Что такое? – спрашивает он заботливую жену свою.
– Гость! – отвечает она запыхавшись. – Что есть в печи, все выложила ему, не принимает нашего, говорит: свое есть! а у самого и кошеля нищенского нет! Проси сам!
– Какой проклятый Татарин зашел ко мне незваный! – вскричал Кый и бросился к светлице; слышит знакомый громкий голос; страх останавливает его в дверях; сквозь щель видит он, что горница освещена как будто пожаром; слышит слова:
– Отколе?
– От поморья, – отвечает чей-то голос. – Неведомые прислали к тебе посоветоваться, что делать с душою Аттилы, когда наступит ей выход из тела. По уму и разуму он прав; хотел покорить землю и небо и для того возвеличился бичом и молотом божиим; но люди не поверили ему, и тьмы отшедших душ вопиют на него за безвременную смерть.
– Да будет он словом и делом чистилища, – говорит опять знакомый Кыю голос. – Отдать в его распоряжение огонь, воду, котлы и все снадобья, служащие к очищению душ. Ну, а ты отколе?
– С Боричева холма: уродилась новая душа у рыбаря, неведомые прислали спросить тебя, что пожаловать ей на пропитанье?
– Воскормится, взрастет и наследует богатство Кощея! – отвечая грозный голос.
– Кощея! – вскричал Кый и бросился в двери. Нет никого.
Светлица пуста; только угасающий свет меркает, исчезает медленно, как вечереющий день, и слышатся грозные слова:
«Будь ты проклят, побрат Кощей, отныне до века! обратись кровь твоя в пламень! иссохни в собственном огне зависти и злобы! не покорствуй тело твое душе твоей! воспротивься душа твоя похотям тела! Жажди идти на Восток, а стопы твои да несут тебя на Запад!
Богатей желаниями; нищай волею!
Желай смерти и будь бессмертен! Желай жизни и умирай каждое мгновение!
Будь в глазах твоих добро злом, а зло добром, хлад пламенем, а пламень хладом, любовь ненавистью, а твердая опора пропастью!
Будь пленником и рабом самого себя, рабом людей, рабом жизни, рабом природы, рабом тварей, птиц, рыб, насекомых, рабом всего дышащего и неодушевленного, рабом движения и недвижности, рабом света и тьмы, рабом звука и тишины; да заключится смерть твоя в яйцо птицы Мувы, и да потонет в волнах Ливийского моря!
Пусть найдется земнородный, для которого небо иссушит целое море и обратит каждую каплю воды в песчинку! Пусть зоркими очами своими найдет он в песчаном море яйцо Мувы! Тогда избавится он от муки и жизни; но будь же врагом своего избавителя! Препятствуй ему быть твоим искупителем, ищи его смерти, а вместе с нею и вечности собственных мук!»
Невидимый голос утих.
Кощей стоит неподвижен. Ужас сжигает его внутренность; жена и дочь говорят ему – он не слышит; наступает день – он не видит света.
Взволнованный воздух грозным проклятием, как взволнованное море, еще не успокоился; еще все слова носятся по светлице, как незримые существа, и касаются до слуха его. Но вот мысль, что народившийся сын рыбаря погубит его, приводит Кощея в память, он обдумывает средства: как бы извести ребенка…»
– Ведомо ли тебе, государь Ива Олелькович, – сказал иерей Симон, прервав чтение, – что вси Князи, и сини Русстии, и богатыри ополчаются на поганого Мамая?
– Нетуть, – отвечал Ива.
– Слава бы и тебе, Боярич, в борзе готовитися идти на погубление злых Агарян; возложить бы тебе кольчуги, и препоясать чресла мечом, и просить благословения у родной матери подвизатися на противные враги.
Там-бо трескут копия харалужные, звенят доспехи злаченые, стучат щиты червленые, гремлят мечи обоюду острые и блистают сабли булатные.
Там-бо предо всеми мужествова, похваляясь и хоробруя и избивая поганых, ты бы, Ива Олелькович, венец славы и честь и почесть от Князя принял.
Там-бо смерть не смерть, но живот вечный!
Там-бо стяги ревут, аки облацы тихо трепещущие, а вой, аки воды, во вси ветры колыблются, шеломы на главах аки заря во время ведряна солнца светящиеся, яловцы, аки пламя, огненно пашется…
– Ой? – вскричал Ива.
– Разумлив еси и храбр, подобает тебе быти Воеводою…
Еще не успел кончить речи иерей Симон, вдруг прибежал от Мины Ольговны конюх Лазарь, запыхавшись. По всему селу искал он Иву Олельковича: его давно ждет матушка.
Иву Олельковича с трудом убедили идти домой, не дослушав повести.
VII
Теперь должно, по обыкновению, сказать несколько слов о наружности и нраве героя былины.
Не Английским пером с длинным раскепом изображу я черты его; не скажу, что ясно отражается на лице его; не употреблю ни Соломоновских уподоблений, ни Байроновских отречений. Не сравню носа его с Ливаном горою, кудрей с морскими волнами, роста с Гехским исполином, руки с рукою времени, чистоты и ясности души его с прозрачностью света и воды, крепости сердца с железом.
Просто скажу я, что Ива Олелькович был росту с своего родителя, Олеля Лавровича; лицем бел и вылит в свою родительницу Мину Ольговну, глаза у него были, как две капли воды, бабушкины, только волосы были у него ничьи; витые кудри как лен сыпались на плечи и лицо.
Пылок как пламя, молчалив как немой, душою ребенок, он не любил ни кланяться, ни просить, и потому даже гости не видали от него поклона; а Мина Ольговна, мамки, и няньки, и пестун Тир не знали, что значит не дать Иве Олельковичу того, к чему он руку протянет.
Речи его, кроме небольших исключений, состояли из слов: вопросительного и удивительного «ой?!» и отрицательного «нетуть!».
Вот каков был Ива Олелькович. Этого-то Иву Олельковича иерей Симон хотел послать в битву за Русское царство против злобного Мамая. Хитро хотел он привлечь его к себе, воспалить в нем страсть к великим побоищам и дать-понятие о чести и славе.
Цель была прекрасна, истинно пастырская, она восстановляла мир в селе Облазне и доставляла героя отечеству.
Но судьба воспротивилась мудрому замыслу. Невидимо подкопалась она под здание иерея Симона, и оно рушилось.
Мина Ольговна давно имела на примете дочь соседа своего Боярина Боиборза Радовановича; она ладила ее за своего возлюбленного сына. Дело пошло должным порядком; свахи зашли с заднего крыльца; старое знакомство помогло, и вот прислали звать Мину Ольговну пожаловать с сыном на гощение в Весь Новосельскую.
В это-то время Ива Олелькович слушал чтение книги, глаголемой Гронограф, про Кощея, и начинал воспламеняться словами иерея Симона к славе; но посланный от Мины Ольговны помешал ему; с досадою согласился он идти к матери.
Призвав к себе Иву Олельковича и зная все скрытые в нем нити, которыми можно было иногда управлять им, Мина Ольговна прежде всего дала ему пряную коврижку, напоила медом и потом стала к нему вести речь о женитьбе.
– Нетуть! – отвечал он ей. – Пойду на войну, поганых бить!
Мина Ольговна не смела противоречить.
– И на войну пойдешь, мое дитятко, сперва оженись; мое дело тебя благословить на женитьбу, а на войну тебя сама жена отпустит, сама снарядит тебя, сама подведет тебе коня богатырского.
– Ой? – отвечал Ива.
– Да, да, – продолжала Мина Ольговна.
– Ну! – вскричал Ива.
Мина Ольговна поняла значение этого отрывистого звука. Должно было торопиться. Начались сборы.
VIII
Таким образом, Ива Олелькович соглашается соединить свою участь с прекрасной Мирианой; родительница его Мина Ольговна уже расчесывает ему густые космы, ведет в кладовую отцовскую, предлагает ему выбрать одежду по сердцу. Терлик – Венедецкой ли парчи, из Перского ли изарбата; или оксамитный зипун со схватками алмазными; кожух ли оловира Гречкого, кружевы златыми и ровными ошитый, златом украшен и иными хитростями; или кафтан покрою Ляхского; пояс – шелковый ли с златыми дробницами или шитый жемчугом; обяз[185] златой с калитою[186] и тузлуками,[187] шапку морховую или мухояровою[188] с гарлатным околышем или соболью душчатого соболя.
Все отнее наследство разложила Мина Ольговна перед сыном своим, выставила перед ним бархатные сапози, шитые волоченым золотом, и сапози зеленого хъза.[189] Но Ива не глядит на одежду шитую; удатное сердце его вскипело, когда он увидел на стенах развешанное деднее стружие!
Богатырские подвиги Полкана, Бовы, Добрыни Рязаныча приходят ему в голову; перед ним на стене лук-самострел, броня кованая и броня кольчатая: тут Татарский куяк,[190] тут щит, выложенный тремя буйволовыми кожами; там лук разрывчатый с тетивою из оленьих жил и стрелы из трости дерева, перенные орлиным крылом, Перевитые шелком и златом, с кованым копьецом; в одном углу: доспехи, оплёчи; в другом: парчовая налушня,[191] щиты червленые кованые, колонтыри злаченые, сулицы, корды, байданы, сабли булатные, мечи каленые, седла кованые, пращи златом украшены и иными хитростями; шеломы златы, узды с серебряными червчатыми кольцами; панцири Немецкие, шапки железные, яловци́ власяные и переные. Чудная оружница! Из глубокого сундука вынимает Мина Ольговна одежду богатую. Зовет к себе Иву.
Не внимает Ива словам матери; чтоб примерять одежду нарядную; он вооружается. На нем уже шапка кованая с переным яловцем, огромный меч привешен к правому боку; он натягивает уже кощатый лук, приставляет каленую стрелу и метит прямо в глаз своей матери. Убил бы он ее в своем воинственном исступлении; но бог не дал радости дьяволу: Мина Ольговна вскрикивает, закрывает лицо руками, бежит вон из ризницы. Преследуя ее, молча, Ива выходит на высокое крыльцо, спускает стрелу. Шипит стрела и вонзается в дорогую самоцветную птицу, рекомую паву, пава вскакивает, взмахивает крыльями, испускает пронзительный крик и клубится по земле. Ива подходит к ней и одним махом меча сносит паве голову.
Первая удача есть добрый вещун сердцу.
Вооруженный Ива ходит вкруг двора своего, все рубит и полет.
Устрашенная Мина Ольговна высылает к нему посла, дядьку Тира. Идет посол на широкий двор, кланяется в пояс удалому доброму молодцу Иве:
– Ох ты гой еси, чадо мое милое, удатный наш барич, милостивец. Прислала меня к тебе твоя матушка править челобитье великое: не бей ты, не губи птицу дворовую, иди де к своей матушке, сотвори ей поклон низменный, упокой ее сердце материнское!
– У-у-у! – закричал Ива. – Снесу я колечище буйную голову! разрублю тебя наполы![192]
– Ох, не ты, государь, снесешь мне голову, а родная твоя матушка перебьет мне хребет, разнесет буйную голову наполы, сошлет меня по свету белому. Тебе, государь, матушка приказывает, а ты, свет, не послушаешься, а на холопство падет вина, и казна, и пагуба; бьет без вины не про дело! Молюся ти, сотвори милость, покорствуй родительнице, свет Олелькович! Не видал я от тебя до сей поры притки и скорби!.. Умилися, государь!
Ива Олелькович выслушал молитву пестуна Тира, сжалился над его слезами, идет к своей родительнице.
Смотрит он с умилением на слезы материнские, расстегивает обязь мечную, вешает лук и стрелы в ложнице своей и наряжается, как долг велит.
Собирается и родительница его, надевает поняву[193] с частыми сборами, надевает телогрею изарбатную, надевает кику,[194] а сверх нее убрус,[195] шитый жемчугом; надевает тюфни[196] с каблуками высокими, шитые по сафьяну золотом; на шею ожерелок[197] из беличьих хвостов; берет ширинку златотканую. Садится на лавку, сажает и Иву. Молча Ива Олелькович исполняет ее приказание; но он занят богатой своею одеждой.
Кончив сборы, Мина Ольговна говорит своему сыну наставления, как кланяться невесте в пояс, а отцу ее и матери земно; как сидеть и молчать, покуда не поведут к нему речей; как не брать помногу гощенья и снеди; как смотреть на невесту не спуская глаз.