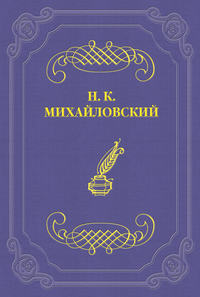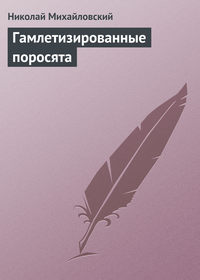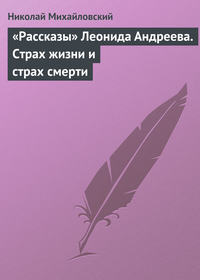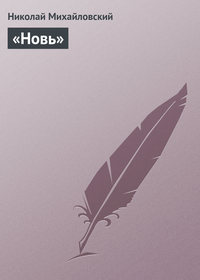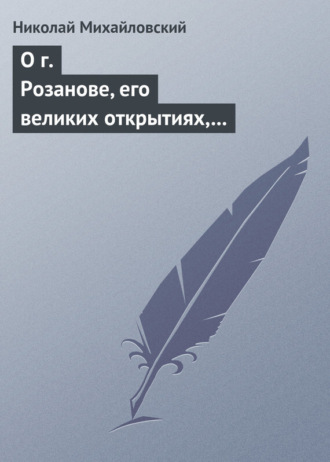 полная версия
полная версияО г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии. Несколько слов о г. Мережковском и Л. Толстом
Боюсь, читатель на меня в претензии. Боюсь, он недоволен тем, что я на пространстве с лишком печатного листа занимал его внимание очевидным вздором. И разве в современной жизни нет ничего, более достойного отклика и освещения, чем этот мудрец, которого, несмотря на его священную бороду, всякий г. Шарапов может отшлепать, приподняв полу халата? чем это перенесение функций головного мозга во «внутренние ввернутости и внешние вывернутости», все эти бреды и первые попавшиеся раскосо-стоящие слова о возбуждениях utriusque sexus, о созерцании сквозь кольцо обрезания и проч., и проч.? О, да, в жизни есть много яркого, что и с положительной, и с отрицательной точки зрения несравненно значительнее писаний г. Розанова. Но литература не всегда может откликаться на то яркое, что совершается в жизни, а в самой литературе писания г. Розанова представляют собой явление во всяком случае замечательное. Может быть, и прав один из авторов «полемических материалов», говоря: «Опровергать набор фраз г. Розанова, отождествлявшего христианские и ветхозаветные воззрения на брак с культом Ваала и Астарты (это-то, как мы видели, напраслина. – Н. М.) и по неведению искажавшего безусловно все исторические факты, будто бы служившие ему опорой, возможно было только в форме остроумно-едкого анекдота» (235). Но обратите внимание на несущиеся к г. Розанову хвалебные гимны и подносимые ему венцы бессмертия. Вот и г. Мережковский проводит такую параллель: «Ницше со своими откровениями нового оргиазма, „святой плоти и крови“, воскресшего Диониса – на Западе; а у нас в России, почти с теми же откровениями – В. В. Розанов, русский Ницше. Я знаю, – продолжает г. Мережковский, – что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей анти-христианской сущности, будет понят, – то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей» («Религия Л. Толстого и Достоевского». XXXIII–XXXIV). Не мое дело судить о том, что подлежит большему, что – меньшему вниманию церкви, и я позволю себе только маленькую поправку к словам г. Мережковского. Никакого «оргиазма» в «гениальных прозрениях» г. Розанова нет, напротив, как мы видели, он требует трезвости («не в опьянении»), умеренности, воздержности (семь недель великого поста и шесть дней недели), аккуратности (раз навсегда данное молитвословие «перед и после»). Что «первозданного» в «сущности» г. Розанова, я не знаю, да и первозданности этой не понимаю, но эпитет «анти-христианский» здесь совсем неуместен. Г. Розанов во всеуслышание исповедует христианское учение, и претензия его – правда, очень большая – не идет дальше «новой концепции христианства», т. е. вящего утверждения его на незамеченных другими основах. Но это мимоходом. Заслуживает или не заслуживает г. Розанов хвалы с точки зрения г. Мережковского, – хвала налицо. А хвала г. Мережковского чего-нибудь стоит. «Нас мало, но с каждым днем все больше», – заявляет он (XXXIV). И он не совсем не прав. В прошлом или в начале нынешнего года в Петербурге образовалось «религиозно-философское общество», видными членами и, если не ошибаюсь, членами совета которого состоят и г. Розанов, и г. Мережковский. Но и помимо того влияния, которое они имеют или могут иметь в среде этого кружка, некоторые более общие их взгляды независимо от них самих получают на наших глазах более или менее широкое распространение. Не они одни ищут путей в область заведомо неведомых «ноуменов», как пишет г. Розанов, или «нуменов» по правописанию г. Мережковского. Есть в нашей современной общественной атмосфере что-то такое, что отвращает людей от «феноменов», явлений и устремляет их в «по ту сторонний» мир нуменов, ими самими признаваемый недосягаемым, вследствие чего мысль их по необходимости принимает мистический характер полу-веры, полуякобы-знания. Признавая лежащее в основе христианства откровение, они, однако, не довольствуются им и стремятся собственными силами проникнуть в сокровенную сущность вещей. Любопытно, что к этому тяготеют, между прочим, и некоторые недавние ярые сторонники и проповедники экономического материализма: salto mortale, очень характерное для истории русской мысли и поучительный пример для всех скороспелых творцов «новых слов». Я не говорю, что эти еще недавно столь непреклонные и непримиримые материалисты совершенно совпадают в своих теперешних воззрениях с г. Розановым или г. Мережковским (не вполне совпадают, как увидим, и они). Может быть, дело и до этого дойдет, может быть, и их с течением времени постигнет перенесение функций головного мозга на «знаки пола», но пока речь идет только о тяготении к «до-мирной истине» и презрительном отношении к «обыкновенному, феноменальному суждению». Не думаю, чтобы это течение увлекло многих, массу, как это было когда-то с увлечением идеями Писарева, или недавно – марксизмом. Но оно существует, и если не изменятся общие условия русской жизни, то с ним, вероятно, сольются в ближайшем будущем отдельные струи вроде мэонов г. Минского, разных толков декадентства, ницшеанства в некоторых русских толкованиях и т. п.
Здоровая и разумная часть писаний г. Розанова – его отношение к аскетизму и связанному с ним лицемерию или страданию и вытекающие отсюда практические выводы о разводе, о внебрачных детях и проч. – отнюдь не составляют какой-нибудь новости в русской литературе. В старые годы уже «дети» в «Отцах и детях» Тургенева все это знали. Нов лишь антураж, обстановка, в которой здравые мысли являются в изложении г. Розанова. Быть может, для известного круга читателей важно и полезно, что мысли эти подкрепляются у него словами Ветхого и Нового Завета, – об этом я не берусь судить. Но обо всем остальном можно сказать старинным изречением: все хорошее здесь не ново, а все новое – нехорошо. Мало сказать: нехорошо. Хорошее у г. Розанова совершенно завалено сумбурно-ноуменальными сугробами, через которые читателю приходится перебираться, ежеминутно увязая по пояс. Сам-то г. Розанов летает по этим сугробам с изумительной легкостью. На то у него «крылышки» и «ветерок»… я хотел сказать: ветерок в голове, но вспомнил, что голова, по толкованию г. Розанова, тут ни при чем, а все дело в «знаках пола». Развязность, с которой г. Розанов предъявляет себя читающей публике – хотя бы и публике «Нового времени», «Гражданина» и «Русского труда» – есть тоже своего рода признак времени. Разумею не то, что г. Розанов часто ведет речь о предметах неудобосказуемых, для которых, по его собственным словам, «в специальных книгах употребляют термины латинского, т. е. мертвого, не ощущаемого нами с живостью языка». Это может быть оправдано искренностью и чистотой намерений. Но никаких оправданий нет для всех тех маханальностей – вплоть до настоящего бреда, – о которых у нас была речь выше.
* * *Мы накануне пятидесятилетия со времени появления в печати первого произведения гр. Л. Н. Толстого. – «Детство и отрочество». Пятьдесят лет работы для автора и пятьдесят лет художественного наслаждения и взволнованной мысли для русского общества… Мне не раз приходилось писать о Толстом, то восторгаясь им, то с болью в сердце отшатываясь от него. Толстой и теперь высказывает подчас мысли, с которыми мудрено согласиться, мало того, – против которых мудрено не протестовать. Но Толстой есть Толстой, нечто огромное, чему равного в русской литературе нет. И вот что мы, между прочим, читаем в вышеупомянутой книге г. Мережковского: «Князь Мышкин» («Идиот» Достоевского), хотя и «бедный», все-таки подлинный рыцарь, – в высшей степени народен, потому что в высшей степени благороден, уж конечно, более благороден, чем такие разбогатевшие на счет своих рабов помещики-баре, как Левины или Ростовы, Толстые, потомки петровского, петербургского «случайного» графа Петра Андреевича Толстого, получившего свой титул, благодаря успехам в сыскных делах «Тайной Канцелярии» («Религия Толстого и Достоевского», 252). Эта не требующая комментариев, безобразно-неистовая выходка одна из многих в книге г. Мережковского – тем непристойнее, что автор знает огромность человека, на которого он, карлик, с таким бешенством замахивается. Только замахивается, потому что этим нельзя ударить Толстого, слишком хорошо знающего цену, по его выражению, «поколений лордов». Пусть, как продолжает г. Мережковский, князь Мышкин есть «русский исконный князь и не отрекается от своего княжества» – это его дело. Толстой есть Толстой, и это наше, читательское, дело. Нам все равно, граф он или не граф, были ли его предки исконные или случайные люди. Припоминая весь пятидесятилетний путь литературной деятельности «великого писателя русской земли», мы видим, что и в своих великих произведениях, и в своих ошибках, часто очень крупных, всегда, от первой до последней написанной им строчки, он был и есть сам, считающийся только с собственною своею совестью, неподкупной ни для предрассудков своей среды, ни для предрассудков, так сказать, мировых, не раз менявший свои взгляды, но никогда не отступавший от них под каким бы то ни было внешним давлением. В этом смысле он для нас больше, чем великий писатель. Он – как бы живой, облеченный в плоть и кровь символ достоинства печатного слова.
1902
Примечания
1
впоследствии (лат.)
2
и другого пола (лат.)
3
сама по себе (нем.)