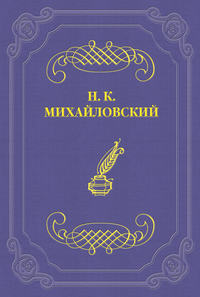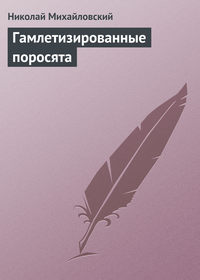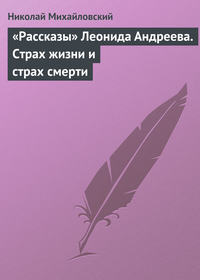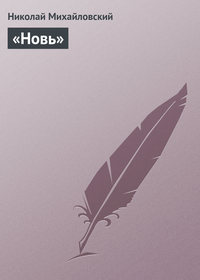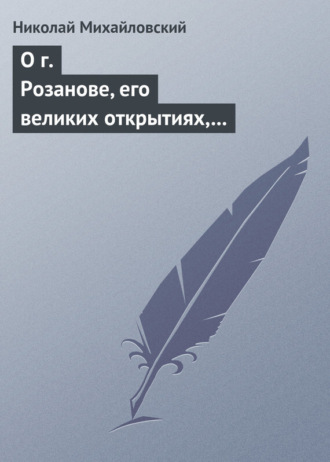 полная версия
полная версияО г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии. Несколько слов о г. Мережковском и Л. Толстом
Читатель скажет, может быть, что я уж пересаливаю в пристальности внимания к вздорам г. Розанова. Но как же иначе быть, если этот маханальный писатель совершает целый переворот в религии, если его статьи «бессмертны и неумирающи»?
Нам надо еще заглянуть на те высоты, до которых иногда достигает манера изложения г. Розанова. Он сам их хорошо знает. Так, в одном месте он говорит: «Пусть будут прощены мои неуклюжие глаголы!.. пока же, пока еще найдешь „язык простой и голос мысли благородной“, а до времени употребляешь первые попавшиеся, раскосо-стоящие слова, чтобы указать новое и неожиданное, что на ступенях видишь». А одно из примечаний автора к полемическим материалам оканчивается так: «Мы немножко бредим, но это – материи, где только бредя – „набредаешь“ на истину». Хорошо, похвально, конечно, что г. Розанов сознает неуклюжесть своих глаголов и смиренно просит простить его: всякий пишет как может, как умеет. Но если г. Розанов может писать лучше, толковее, точнее, внимательнее, если ему доступен «язык простой и голос мысли благородной» и только по торопливости пускает он в ход первые попавшиеся раскосостоящие слова, так это вовсе не хорошо, и, в особенности, когда речь идет о новом и неожиданном. И зачем так торопиться? Поспешишь – людей насмешишь: сообщишь нечто, столь новое и неожиданное, например, о Руже де Лиле, о Ришелье и Мазарини, о Рафаэле, что и на правду не похоже. Еще хуже, разумеется, когда человек по той же торопливости сознательно печатает заведомый бред, утешая при этом читателя: это я так, временно, в ожидании той истины, на которую набреду в будущем. Это уже не смиренное признание в том или другом своем изъяне, а, напротив, чрезвычайное высокомерие и презрительное отношение к читателю.
То, что сам г. Розанов называет неуклюжими глаголами и бредом, заинтересованный читатель найдет на с. 127 и 221–222. Я же обращу его внимание на каламбур о бреде, которым автор рассчитывает набрести на истину. Когда человек идет не от факта к факту и не от мысли к мысли по логической между ними связи, а от слова к слову по звуковому их сходству, – получается каламбур, который может быть остроумен и забавен в качестве «игры ума», но которому никто не придает серьезного, научного или философского значения. У господина же Розанова, при его маханальности, многочисленные каламбуры играют роль серьезных аргументов. Бред как путь к истине соблазнил его потому, что ему пришло в голову слово «брести», но, раз возникнув, эта звуковая ассоциация кажется ему вполне убедительной. Вот другой, более сложный пример каламбурной маханальности, который, кстати, может служить и образчиком бреда, хотя на этот раз г. Розанов и не признает его за таковой:
«В обрезании установилось вечное (и невольное) созерцание Бога как бы через кольцо здесь срезанное, и это до такой степени связывало Бога с точкой обрезания, что теизм – сексуализировался, а sexus – теитизировался. И так – уже в тысячелетиях, так – уже невольно! Тут получилось вечное зеркало созерцаний, из коего не умел и никогда не мог выйти семит: всякая мысль о поле („сонные мечтания“) пробуждала мысль о Боге, теряла жесткое выражение (нам известной) чувственности и растворялась в богообращенности, не отрицаясь (здесь взял меня Господь); обратно, о Боге мысль – побуждала вспомнить свой пол, и, может быть, даже наверное – будила „мечтание“. Двое малюток в одной люльке ласкаются ручонками. Не сочинить этого, a priori не сотворить; не из чего сотворить – иначе как через „обрезание“ Богу, „ветхий завет“. Я беру и чиню себе перо: вот подобие и аллегория „срезания“, „чинения“ себе Израиля. И Бог знал, где „зачинить“ его в союз вечный и нерасторжимый, и до дна проникающий».
Дешифрировать эти каламбуры, равно как и весь этот бред, я не берусь.
* * *«Порнография», хотя и «философическая», и «любодейный дух», прикрытый фиговыми листьями работы г. Шарапова, – не думаю, чтобы главным образом в этом состояло неприличие г. Розанова как писателя. Неприличен он прежде всего своей нечистоплотной маханальностью: той развязностью, с которой он пускает в обращение небывалые факты собственного сочинения или делает достоверные, но ни для кого не интересные, сообщения о подробностях житья-бытья своих знакомых; той небрежностью, с которой он пишет «первые попавшиеся слова», не давая себе труда в них вдуматься, и даже прямо и просто свой бред печатает. Все это гораздо неприличнее, чем, например, явиться в общество в халате или с изъянами вроде незастегнутых пуговиц там, где им полагается быть застегнутыми. Костюм есть дело условное, халат для европейца и азиата не одно и то же, тогда как выплескивать из себя на бумагу для всеобщего сведения всякий вздор всегда и везде одинаково нечистоплотно; нечистоплотно, недобросовестно и оскорбительно для читателя. Есть очень «знойные потребности», которые, однако, всенародно не удовлетворяются. Г. Розанов не знает в литературном отношении никаких границ. Помните, например, как он однажды обратился к Толстому с нотацией, одинаково изумительной как по форме, так и по содержанию: он печатно говорил с «великим писателем русской земли» на «ты» и рылся в интимнейших подробностях его личной жизни. Не помню, где было напечатано это единственное в своем роде произведение русской литературы, во всяком случае ответственность за него, равно как и за все другие курбеты г. Розанова – все эти выдуманные факты, каламбурные аргументы, первые попавшиеся слова, бреды – должна быть распределена между ним и теми редакциями, которые либо совсем безданно, беспошлинно пропускают его писания, либо, как г. Шарапов, спохватываются, уже достаточно угостив читателя «философической порнографией».
Надо, впрочем, сказать, что философическая порнография г. Розанова есть дело очень сложное и далеко не все в ней заслуживает запоздалого негодования г. Шарапова. Г. Шарапов утверждает, что г. Розанов проповедует «полную свободу половых сношений». Это неправда или, по крайней мере, недоразумение. Г. Розанов горячо стоит за семью и, как увидим, готов приносить ей даже чрезмерные жертвы; он негодует против так называемых романов в жизни; слова «отец», «мать», «дети» – для него священны. Он с умилением рисует картины то, как мы имели случай видеть, двух детей, ласкающихся ручонками в люльке, – и даже ни к селу, ни к городу, – то престарелых, любящих друг друга супругов. В связи с этим он восстает против взгляда на половые отношения как на что-то само по себе нечистое, постыдное, унижающее человека. Это закон природы или, как он предпочитает выражаться, Божий закон, и если в практическом его осуществлении бывает нечто грязное, мерзкое, унизительное, то это зависит не от него самого, а от тех рамок, от тех условий, в которых он осуществляется. Отрицательное отношение к самому источнику жизни вызывает лишь массу лжи, лицемерия, фарисейства, страданий и преступлений. Такова исходная точка г. Розанова. Отсюда идут два ряда его мыслей, весьма неравноценных, хотя оба они, кажется, в одинаковой мере возмущают г. Шарапова и других оппонентов г. Розанова. С одной стороны, г. Розанов решает со своей точки зрения некоторые житейские вопросы (о разводе, о незаконных или, как ныне называет их законодатель, внебрачных детях, об истинном целомудрии), причем обнаруживает – что бы ни говорили его оппоненты – много здравого смысла и гуманности, хотя и облекает их, к сожалению, подчас в свойственную ему сумбурную форму. С другой стороны, он строит некоторое головоломное метафизическое здание, вроде Вавилонской башни, основание которое должно корениться в земле, а вершина упираться в небо. Он хочет, говоря его собственными словами, «теитизировать пол и сексуализировать религию». Здесь-то и заключается то, что не без основания можно назвать философической порнографией г. Розанова. Я думаю, однако, что ответственность за нее лежит совсем не в «духе любодеяния», который будто бы обуял почтенного автора, а все в том же легкомыслии и высокомерии, с которыми он считает возможным или нужным доводить до сведения читателей всякие «первые попавшиеся слова».
Изложить основные мысли г. Розанова чрезвычайно трудно или даже прямо невозможно как благодаря вышеуказанным свойствам его мышления и писания, так и вследствие скользкости темы, многие подробности которой подлежат изложению только в специальных ученых трактатах и учебниках. Он сам пишет о некоторых таких подробностях, что «эти тайны так жгут язык, что о них нельзя, собственно, говорить: и язык „прильпе к гортани“, и бумага под чернилами горит, тлеет, проваливается» (117). Кроме того, для меня лично существует еще одно затруднение. Свою «теитизацию пола и сексуализацию религии» г. Розанов производит в рамках христианства, что и составляет «новую концепцию христианства». Он, его единомышленники и противники аргументируют не только доводами от разума, или данными историческими, естественнонаучными, собственными психологическими наблюдениями, а и евангельскими и ветхозаветными текстами. Для меня, как я уже заявил в «Отрывках из религии», – а настоящие заметки могут обратиться в один из таких отрывков, – это область неприкосновенная. Не берусь судить, кто из противников прав в своих толкованиях различных мест Ветхого и Нового Завета, и вообще не коснусь «новой концепции христианства».
Я понимаю, что специалисты по христианской догматике могут одни восхищаться толкованиями Розанова, другие возмущаться ими, хотя, признаюсь, меня несколько удивляет появление в качестве таких специалистов г. Шарапова или г. Колышко, известных, кажется, с другой стороны. Во всяком случае, для меня эта полемика не существует. Но вавилонская башня г. Розанова, эта теитизация пола и сексуализация религии затрагивает разнообразные области, не имеющие никакого непосредственного отношения к христианству, в которых, однако, глубокомысленный автор тоже выдвигает «новые концепции» и делает замечательные открытия.
К сожалению, неясны главные термины, которыми оперирует г. Розанов. Он нигде не дает сколько-нибудь точного определения, что такое с его точки зрения религия и что такое пол. Может быть, он потому не находит нужным дать такое определение, что считает его всем известным, а может быть, его собственные на этот счет понятия не совем ясны. На последнюю мысль наводит то странное применение слов «религия», «религиозный» и т. п., которое он иногда делает. Так, занесенный течением мысли на слово «взор», он останавливается для следующих размышлений: «Какая глубина в этом слове „взор“: ведь тут – глазное яблоко; одна, казалось бы, физиология; но в этой „физиологии“ есть скорбь, есть безутешное – есть дух, высоко духовное, по коему мы и переименовываем анатомическое „глазное яблоко“ в почти религиозное „взор“» (113). И все это вздор. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы «глазное яблоко» не переименовываем во «взор», – мы можем бросить взор, бросить взгляд, но бросить глазное яблоко не можем. Далее, почему во «взоре» г. Розанов усматривает непременно скорбь и безутешное? Оно, пожалуй, есть в тех «взорах усталых» по случаю «ночей безумных», о которых поется в известном романсе Апухтина, но едва ли зато тут есть что-нибудь религиозное. Впрочем, со специальной точки зрения г. Розанова, может быть, и есть, ну, а те лукавые, свирепые, веселые и т. п. взоры, о которых мы говорим постоянно? Что касается пола, то г. Розанов довольствуется набором слов в таком роде: «кто же не понимает, что пол есть пульсация, есть древнейший в природе ритм»; или: «то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем полом»; или еще: пол есть «точка, покрытая темнотой и ужасом, красотой и отвращением». И вот эти-то две туманности г. Розанов желает сблизить, слить воедино, так сказать, взаимно пропитать их одну другой.
«Сближение полов свято или мерзость?» – так формулирует один из авторов «полемических материалов», г. Гатчинский отшельник, вопрос, о котором препираются г. Розанов с единомышленниками, с одной стороны, г. Шарапов, Кусков и проч. – с другой. Сам г. Гатчинский отшельник полагает, что вопрос неправильно поставлен, ибо, дескать, понятие святости и мерзости неприложимо к тому, что просто физиологично. Я думаю, что это верно относительно растительного и низшего животного мира; но для человека на известной ступени развития сближение может быть и свято, и мерзко, смотря по той роли, которую в нем играет, кроме физиологии, еще психология. И если бы г. Розанов стоял на этой точке зрения, то независимо, конечно, от того сумбура, которым он окружает здравую мысль, я приветствовал бы его борьбу с аскетизмом и его неизбежными спутниками, лицемерием и ложью. Но г. Розанов идет дальше, гораздо дальше, и притом совершенно в сторону. Для него сближение само по себе как продолжение или повторение акта божественного творчества есть нечто мистическое, а в его органах, в «том темном и разлитом в существе нашем, что мы называем полом», он видит орудия, которыми приподнимается завеса, отделяющая доступный нашим внешним чувствам и нашему ограниченному разуму мир явлений от «ноуменов», от сущности вещей. Поэтому он устраивает некоторое соперничество между головным мозгом и полом, причем делает в разных областях знания удивительные открытия, которые и излагает своей маханальной манерой первыми попавшимися словами. Удивительно уже само сопоставление и противопоставление головного мозга и пола, органа, занимающего определенное место в организме, подлежащего мере, весу, химическому анализу и т. д., и чего-то «темного и разлитого в существе нашем». Но дело становится, может быть, еще удивительнее, когда логическая нескладица такого сопоставления как будто сглаживается и мы узнаем, что пол имеет свои «два кульминационные выражения в лице и знаках пола». Таким образом, «пол» локализируется и сопоставлению с головным мозгом подлежит «лицо» (как помнит читатель, лиц у нас собственно пять: настоящее лицо, да две ладони, да две ступни, – но это мы, краткости ради, оставим в стороне) и «знаки пола». Г. Розанов согласен, что «есть бесспорная зависимость между телом, corpus, как музыкальным инструментом огромной сложности струн, и между мозговыми массами, где как бы собрана в небольшом объеме их всех клавиатура»; но, – говорит, – «зависимость от этих масс собственно „души струящейся“ гораздо темнее и даже вовсе сомнительна. Например, это: „диктует совесть, пером сердитый водит ум“, или у того же поэта и в том же стихотворении: „И мир мечтою благородной пред ним очищен и обмыт“ – как-то ужасно трудно отнести к „извилинам“ „белого“ или „серого“ вещества мозга. Еще так называемую статическую, неподвижную сторону души, что-нибудь вроде аристотельских силлогизмов… можно представить себе неподвижно „от века“ лежащею в мозговых массах, но „Мир мечтою“, т. е. вихрь, таинственный утренний ветерок, который даже в чисто умственной работе ворошит и перебирает силлогизмы… нельзя отнести туда, как нельзя отнести сон и бодрствование». Сообщив несколько высоко ценных и совершенно новых мыслей о сне и бодрствовании, а также о том, что в некоторых половых аномалиях психиатр ищет разъяснений у акушера, – все это, впрочем, на одной страничке, – г. Розанов заключает:
«Душа в ее динамическом смысле, как „ветерок“ мыслей, как „крылышки“ около силлогизмов, которые уносят их туда и сюда – вовсе и нисколько не имеет своим седалищем мозг, но то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем „полом“ и что имеет в лице и знаках пола только два кульминационные свои выражения… Психическая деятельность, представляя как бы гуттенберговский перевод иероглифов пола, струится с лица, как „мысленный свет“, как аромат „доброты“ и „ласки“, страха за ближнего, готовностей для него: „Тс… Тс… Ромео, это ты?“ Неужели это „в мозгу вырабатывается“? Конечно – это стекает с лица. Лицо живет, играет, движется, говорим ли мы, пишем ли сочинения, скорбим ли, радуемся ли: „душа“ есть „жизнь“ лица, „отблеск“ духовный с „одушевленных“ его линий, струйка, стекающая с многозначительных его точек, со „сморщенного“ чела, с „ласкового“ взора».
Во всей этой цитате курсивы и кавычки принадлежат г. Розанову, очевидно, отмечая собою особенно значительные и характерные для авторской мысли выражения. Но что собственно значат все эти «ветерки», «крылышки», «вихри», все эти эпитеты вроде «струящаяся» душа? Что это за процесс, которым «стекает с лица» какой-то «мысленный свет» и «аромат доброты»? Почему ум Аристотеля имеет своим седалищем головной мозг, а «сердитый ум» поэта – «кульминационные точки пола»? Все это не больше, как «слова, слова, слова», прикрывающие собою нечто детски-невежественное. Но г. Розанов так верит в свои слова, слова, слова, что, как мы видели, усмотрев в портрете Рафаэля лицо девушки и не имея, кроме этого своего усмотрения, никаких данных, смело говорит о «постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении utriusque sexus». Для решения естественно возникающего вопроса – что это значит и как это возможно, – я предложил бы избрать комиссию из сведущих людей, в которую рекомендовал бы членами одного из редакторов изданий, в которых печатались произведения г. Розанова, например, кн. Мещерского и г. Колышко, утверждающего, что ныне и вообще «часто не различишь, где начинается мужчина и где кончается женщина» (с. 83. «Полемические материалы»).
Маханально покончив с головным мозгом и лицом, г. Розанов столь же маханально справляется с «отделившимися и главными, нижними точками пола». Мы и здесь получаем ряд замечательных и совершенно неожиданных открытий, из которых я могу представить читателю лишь немногие. И да простится мне обилие цитат: читатель, я думаю, и сам убедился, что передавать идеи г. Розанова своими словами невозможно. Прежде всего, мы получаем любопытнейшее сопоставление лица и «главных нижних точек пола». Дело в том, что «фигура человека „по образу и подобию“ имеет в себе как бы внутреннюю ввернутость и внешнюю вывернутость – в двух расходящихся направлениях. Одна образует с ней феноменальное лицо, обращенное по сю сторону, в мир „явлений“; другая образует лицо ноуменальное, уходящее в „тот“ мир, к каким-то не астрономическим звездочкам, не наших садов лилиям». «Лицом мы только достигаем, отгадываем, догадываемся, любопытствуем; напротив, здесь – абсолютное молчание, но исполненное какого-то таинственного ритма, пульсации; самая форма – пустоты, полости, в противоположность „выпуклостям“, „уплотнениям“, из сочетания которых составлено лицо; „пустота“, т. е. начинающее отрицание материи, противоположный уплотнению полюс… Это есть противоположный логическому порядку мир, где нет вовсе познаваемых феноменов и начинаются собственно зиждительные ноумены».
В этой цитате каждое слово – перл. Так как о ноуменах нам ничего не известно и не может быть известно, то предоставим их в полное распоряжение г. Розанова, пусть он их помещает, куда хочет. Но почему «здесь» «нет вовсе познаваемых феноменов»? Они есть, их изучают анатомия, физиология и некоторые их специальные отрасли. И г. Розанов сам это знает, он брякнул свое нелепейшее отрицание с разбегу, маханально. Точно так же маханально распределение «пустот», которых будто бы нет в лице (рот, носовые, ушные полости), и «выпуклостей», которых будто бы нет «здесь». Но мимо эти маленькие вздоры и перейдем к важному открытию г. Розанова в области общей биологии. Помнится, в одной из своих прежних статей г. Розанов глубоко презирал Дарвина, и конечно, английский натуралист вполне заслуживает презрения русского философа. Пресмыкаясь в мире феноменов, английский натуралист копил и громоздил один на другой мелкие факты для доказательства родства таких-то и таких-то растительных видов, таких-то и таких-то животных, и лишь убежденный этой подавляющей массой фактов, высказал гипотезу о происхождении видов вообще. Г. Розанов, которому, если позволено будет так выразиться, на феномены наплевать, потому что он силен если не знанием ноуменов, то «тайным касанием» к ним, решает вопрос гораздо проще, а именно:
«Пол в растении есть только временный феномен; это „распускающийся“ и „опадающий“ цветок: остальное время года есть живое, но оно не имеет выявленных точек сосредоточения пола. Но вот, цветок (растение) разделяется: его венчик, лепестки, даже тычинки и пестики, вся „видная“ часть, всякое в нем „выражение“, „сказывание“ о себе – сохраняют верхнее, переднее положение; напротив, все внутреннее уже в цветке, полости оплодотворения и плодоношения относятся назад. Едва этот чудный факт, в сущности, разделение цветка, произошел – существо начинает шевелиться, бегать, испытывать страх, когда его ловят, ловить – когда оно голодно. Мы получаем план животного, собственно, развившийся из цветка; лицо, личико в нем – существующее в зачатке у насекомого, у раков, у „долгоносика“ – суть преобразованные наружные покровы пола, отчего оно и бывает мужское и женское; а собственно внутренние половые части – есть затаившийся внутрь плодник и „чрево“» (с. 8).
Видите, как просто: некоторое изменение во «внутренних ввернутостях и внешних вывернутостях», и растение превращается в животное. Куда же Дарвину до такой гениальной простоты! Есть в книге г. Розанова еще одно место, пожалуй, еще более посрамительное для медленной работы Дарвина, но я его приводить не буду – очень уж скользкая тема (сюда именно относятся фиговые листья фабрикации г. Шарапова). Такие более или менее рискованные места в изобилии рассыпаны по всей книге г. Розанова, что и дает повод некоторым из его противников обличать его в порнографии и «блудодейном духе». Я думаю, что обвинение это ставится слишком круто. Г. Розанов и сам понимает возможность и даже как бы законность подобных нареканий.
«Не заблуждаюсь ли я? – спрашивает он. – Не гублю ли душу свою бессмертную и с нею вместе души своих читателей, за кои по существу дела автор всегда ответственен? Что область блужданий на обыкновенное (феноменальное) суждение „грязновата“ – это-то я видел; но ведь и вся цель поисков была – найти, не загрязнена ли она только, такова ли она an und für sich[3] в до-мирной истине своей. И если „нет“ – очистить. Но это очищение невозможно было произвести одною только философией, по существу холодной и лишь пролетающей около темы (может быть – мимо нее): нужно было, т. е. была задача – снизойти и чуть-чуть уничижиться самому перед темой. Как бы, взяв священную бороду, начать оттирать ею точку всеобщего тысячелетнего плевания, столь важную вместе точку! „Погибни мое имя, но воскресни вещь“… Это и было причиной, что я не только писал о теме, но и сливал свое лицо с ней, как бы говоря всякому, желающему оскорбить ее: „я – тут, человек; до известной степени философ, мудрец“» (129–130).
Этот мудрец, презирающий «обыкновенное, феноменальное суждение», мирящийся только на «до-мирной» истине и обтирающий ради нее своей священной бородой загаженные места, – это наивно, до комизма наивно, но «любодейного духа» тут нет. Своим стремлением «теитизировать пол и сексуализировать религию» г. Розанов напоминает некоторым из возражающих ему древние сладострастные культы, в которых «знаки пола» были предметами мистического поклонения. На это у г. Розанова есть только одно возражение, очень неосновательное, которое притом и возражением нельзя, собственно, назвать. Он говорит: «Ну, что кроме слова мы знаем о „культе Phallus'a“? Это как надгробная надпись: „под сим камнем лежит тело Ивана Иваныча“. Но кто он был и что с ним было – уже прохожий (мы) не знает!» (93). Нет, кое-что мы знаем, и очень жаль, что этого не знает г. Розанов, хотя бы уже потому, что знание это – конечно, только «феноменальное»! – дало бы ему материал для настоящего возражения. Сладострастные культы древности, имея в большинстве случаев оргиастический и экстатический характер, не знали тех строго определенных рамок умеренности и аккуратности, которые настойчиво рекомендует г. Розанов. Так, например, он пишет: «Вот первая особенная проблема мирского жития: в какие времена и с каким духом можно приблизиться брачному к жене своей? Едва я задаю себе этот вопрос, как отвечаю: не в опьянении, не в объядении, не в усталости, не в раздражении и лукавстве» (253). Г. Розанов стоит за воздержность, руководствуясь при этом отчасти церковными правилами, а отчасти физиологическими соображениями: «То, что не венчают в Великий пост – есть всеобщее и всему народу указание разрывать факти. ческое супружество на семь недель. Теперь, если взять шесть дней недели воздержания, то уже для самых пылких сил оно возможно» (148). Г. Розанов скорбит об отсутствии готовых «кратких молитвословий перед и после» (178). «Собственно утренняя и вечерняя молитвы и должны бы быть составлены в отношении к этому акту, возможному в нощи, как важнейшему самого сна» (198). «Демон ни против чего так не ухищряется, как против полового акта: „тут бы надо поберечь человека, а уж там я погублю его!“ Поэтому одно из направлений молитвы перед „сближением“ должно быть против Велиара, к отогнанию его злых ковов. „Зову тебя, Вечный Боже, дабы ты оградил меня и ее от лукавых ковов“… Но тут вообще нужен гений слова, и мы умолкаем по бессилию» (199). Вся эта строго обдуманная и требующая большой выдержки обстановка не имеет ничего общего с культами Ваала, Астарты, Вакха-Диониса, нашего Ярилы и проч., и проч. Далее, характерная черта этих культов – о чем мы впоследствии будем говорить подробнее – есть жестокость: истязания, самоистязания, кровопролитие. Г. же Розанов, как христианин, проповедует кротость, любовь к ближним, смирение, и жесток он разве только по отношению к школьникам, пороть которых, по его мнению, необходимо. Наконец, те культы представляют собою либо обломок глубокой старины до-патриархального быта, либо бессознательный протест против семейных уз, тогда как для г. Розанова семья есть святыня. Одна из его статей так и называется «Семья как религия». Тот акт, на возвеличение которого он потратил столько мудрости и ради которого готов испачкать свою священную бороду, ценен и важен для него не сам по себе, а как акт деторождения, «сотворения душ». Для него «Библия есть универсальная педагогика (= дето-вождение) и даже, пожалуй, универсально-родильный дом» (260). К подножию семьи повергает он и отечество, и человечество. Именно в этом смысле надо понимать такое, например, его замечание: «Отечество всегда продавалось ради любви, и это хорошо: „хотят штурмовать их город, а там – мой возлюбленный; предупрежу их город, чтобы не удался штурм, и не убили моего возлюбленного“. И хорошо, что так. Все – осколками у ног любви; и без всего человек проживет, а без любовности он сейчас бы умер» (220). В этой тираде слова «возлюбленный», «любовь», «любовность» следует разуметь в связи с отцовством и материнством. И может быть, дело было бы яснее, если бы г. Розанов привел не столь поэтическую иллюстрацию к своей мысли, а указал бы, например, на казнокрада или взяточника, обкрадывающего казну (какая разница между этим обкрадыванием и «продажею отечества»?) или берущего взятки ради семьи – «ребятишкам на молочишко»…