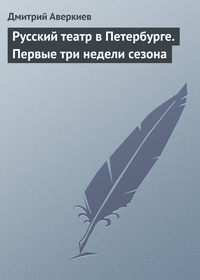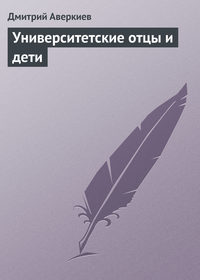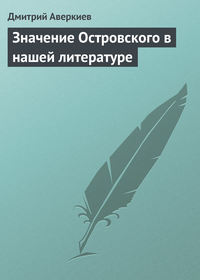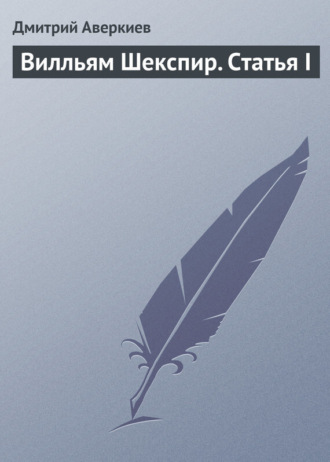 полная версия
полная версияВилльям Шекспир. Статья I

Дмитрий Васильевич Аверкиев
Вилльям Шекспир. Статья I
La crainte du gênie est le
commencement du goùt.
Victor Hugo.I. Г. Гервинусъ о Шекспирѣ
Нечего искать у нѣмцевъ правды.
Пѣсня о Любушиномъ Судѣ.Извѣстное сочиненiе Гервинуса «Шекспиръ» переводится въ настоящее время на русскiй языкъ г. Тимофеевымъ. Покуда вышелъ первый томъ.
Книга Гервинуса, безъ сомнѣнiя, книга весьма почтенная и для нашей критики, которую нельзя обвинить въ глубокомъ знанiи и пониманiи Шекспира, даже весьма полезная. На безлюдьи и Ѳома дворянинъ.
Если бы мы желали пѣть въ унисонъ съ нашей многоученой литературой, то мы бы ограничились восторженными похвалами сочиненiю Гервинуса, даже и ту общеизвѣстную истину, что Шекспиръ великiй поэтъ, подтвердили бы цитатой изъ его почтенной книги, – къ несчастiю, мы полагаемъ, что русская мысль имѣетъ право на самостоятельность и потому отнесемся къ труду многоученаго професора критически.
Для лучшаго опредѣленiя значенiя книги Гервинуса постараемся отыскать исходную точку его разсужденiй. Гервинусъ принадлежитъ къ числу нѣмцевъ недовольныхъ туманной германской философiей; къ числу нѣмцевъ толкующихъ о практической дѣятельности и по всѣмъ вѣроятiямъ онъ состоитъ членомъ безчисленныхъ National-Verein'овъ. Онъ осуждаетъ тѣхъ, кто смотритъ на Шекспира съ философской точки зрѣнiя.
«По моему взгляду на вещи» – говоритъ онъ, "мнѣ кажется, что наша философская метода разсматриванiя неумѣстна, неудобопримѣнима къ поэтическимъ произведенiямъ такого времени, коего собственная философiя доискивалась истины любымъ путемъ, нежели наша, – неудобопримѣнима къ произведенiямъ поэта, обладавшаго трезво-здравымъ смысломъ (стало быть философiя имъ необладаетъ), поэта, которому глазъ и ухо служили единственными (будто единственными?) лоцманами и рулевыми въ изученiи мiра и жизни, поэта, который обладая въ высшей степени философскимъ глубокомыслiемъ, отстоялъ отъ философiи еще дальше, нежели Гете" (стр. 41).
Мысль, выраженная довольно кудревато, – но въ сущности весьма скудная и ведущая къ разнообразнымъ курьезамъ. Смѣшно возвращаться назадъ, забыть успѣхъ человѣческаго мышленiя; странно въ XIX вѣкѣ требовать, чтобы смотрѣли на искуство глазами Бэкона. А въ сущности вѣдь именно этого и желаетъ въ данномъ случаѣ Гервинусъ.
Быть строгимъ послѣдователемъ бэконовой системы философiи въ наше время, значитъ быть воплощеннымъ анахронизмомъ; просто дѣло невозможное. И Гервинусъ, конечно, не могъ совладать съ нимъ вполнѣ; онъ ограничился проведенiемъ паралели между Бэкономъ и Шекспиромъ.
Однако, успѣшно ли онъ выполнилъ хоть это? Отчасти да; въ общемъ нѣтъ. Онъ указалъ сродство Шекспира съ Бэкономъ (въ IV томѣ), особенно по отношенiю обоихъ къ древности; указалъ на ихъ сродство съ римскимъ духомъ, это сродство съ большею точностiю и остроумiемъ проведено Куно-Фишеромъ въ его сочиненiи о Бэконѣ. Но дѣло въ томъ, что Куно-Фишеръ не остановился на этомъ и въ первомъ томѣ своей исторiи "Новой Философiи" провелъ генiальную паралель между мiровоззрѣнiями Шекспира и Спинозы (см. стр. 250–255 русскаго перевода).
Вотъ что говоритъ Куно-Фишеръ о сродствѣ Шекспира и Бэкона[1].
«Поэтъ и историкъ», думаетъ Бэконъ, даютъ намъ изображенiя характеровъ; этикъ долженъ брать не эти изображенiя, но только ихъ очерки (Umrisse): простыя черты, опредѣляющiя человѣческiй характеръ. Какъ физика должна разсѣкать тѣла, чтобы открывать ихъ скрытыя свойства и части, – такъ этика должна проникать въ различныя настроенiя души и открывать ихъ тайныя расположенiя и основы. Бэконъ хочетъ, чтобы этика обнимала не только внутреннiя основы, но также и внѣшнiя условiя, отпечатываемыя человѣческими характерами; всѣ тѣ особенности, которыя сообщаются душѣ поломъ, возрастомъ, родиной, тѣлосложенiемъ, образованiемъ, счастливыми обстоятельствами и т. д." Словомъ, онъ хочетъ, чтобы человѣка разсматривали въ его индивидуальности: какъ произведенiе природы и исторiи, совершенно опредѣляемое естественными и историческими влiянiями, внутренними основами и внѣшними дѣйствiями. Точно также понималъ человѣка и его судьбу Шекспиръ: онъ смотрѣлъ на характеръ какъ на произведенiе извѣстной натуры и извѣстнаго историческаго положенiя, и на судьбу, какъ на произведенiе извѣстнаго характера. Какъ интересовали Бэкона подобныя изображенiя характеровъ доказываетъ то, что онъ самъ пытался дѣлать ихъ. Рѣзкими чертами нарисовалъ онъ характеръ Юлiя Цезаря, и сдѣлалъ бѣглый очеркъ характера Августа (Imago civilis Iulii Caesaris Im. civ. Aug. Caes). Оба изображены имъ въ томъ же духѣ, какъ и Шекспиромъ. Онъ видѣлъ въ Цезарѣ соединенiе всего, по благородству и величiю, по образованiю и побужденiю, что произвелъ римскiй духъ; онъ разсматривалъ этотъ характеръ, какъ величайшiй и страшнѣйшiй, какой только могъ быть въ римскомъ мiрѣ. И что служитъ всегда при анализѣ характера повѣркой вычисленiю, – Бэконъ объяснилъ характеръ Цезаря такъ, что вмѣстѣ объясняетъ его судьбу. Онъ видѣлъ, какъ Шекспиръ, что у Цезаря было тяготѣнiе къ монархическому чувству собственнаго достоинства, которое царило надъ его великими способностями, равно какъ и надъ ихъ уклоненiями; черезъ что онъ дѣлался опаснымъ республикѣ и слѣпымъ относительно своихъ враговъ. «Онъ хотѣлъ быть», говоритъ Бэконъ, «не великимъ между великими, но повелителемъ между послушными». Его собственное величiе до того ослѣпляло его, что онъ не зналъ болѣе опасности. Это тотъ же Цезарь, котораго Шекспиръ заставляетъ говорить:
ИзвѣстноОпасности, что онъ (Цезарь) ея опаснѣй.Мы съ ней два льва: въ одинъ родились день.Но только я и старше, и грознѣе[2].Когда наконецъ Бэконъ видитъ судьбу Цезаря въ томъ, что онъ прощалъ своихъ враговъ для того, чтобы этимъ великодушiемъ обезсилить ихъ число, – то рисуетъ намъ также человѣка, который возвышаетъ выраженiе своего величiя на счетъ своей безопасности.
Очень характеристично, что Бэконъ между человѣческими страстями на первомъ планѣ ставитъ честолюбiе, а властолюбiе и любовь причисляетъ къ нисшимъ. Она ему столь же чужда, какъ и лирическая поэзiя. Но въ одномъ случаѣ придавалъ онъ ей трагическое значенiе. И именно на этомъ случаѣ основалъ Шекспиръ свою трагедiю. «Великiя души и великiя предприятiя», думаетъ Бэконъ, "не совмѣстны съ этой нисшей страстью, которая является въ человѣческой жизни то какъ сирена, то какъ фурiя. Однако, прибавляетъ онъ, «Маркъ Антонiй представляетъ въ этомъ отношенiи исключенiе». И дѣйствительно, о Клеопатрѣ, какъ ея изобразилъ Шекспиръ, можно положительно сказать, что она, по отношенiю къ Антонiю, была одновременно и сиреной, и фурiей".
Но съ этой ли точки зрѣнiя смотритъ Гервинусъ на Шекспира. Вѣренъ ли онъ бэконовскому воззрѣнiю на поэзiю?
Отвѣтъ будетъ болѣе, чѣмъ на половину, отрицательный. Гервинусъ прибавляетъ много своего, чисто нѣмецкаго и притомъ филистерски-нѣмецкаго; это не строгое, вѣрное себѣ и богатое результатами воззрѣнiе Бэкона, а часто воззрѣнiе самаго обыденнаго моралиста. Смѣшно, конечно, говорить о безнравственности Шекспира, – но едва ли не комичнѣе отыскиванiе въ Шекспирѣ узкихъ мѣщанскихъ понятiй о нравственности.
Видѣть въ смерти Дездемоны воздаянiе за то, что она вышла за мавра противъ воли родителей – мысль пошлая и съ христiанской точки въ высшей степени безнравственная (сего ради оставитъ человѣкъ отца своего и матерь свою), – а къ ней именно приводитъ Гервинуса желанiе опровергнуть тѣхъ, которые полагаютъ, "что духовная высота неразлучна съ вольнодумствомъ и свободными нравами".
Удивительно! Шекспиръ проповѣдующiй мѣщанскую мораль! Такое практическое отношенiе къ Шекспиру, по истинѣ, изумительно.
«Что за человѣкъ былъ бы Шекспиръ, – говоритъ Куно Фишеръ, – если бы онъ напримѣръ дѣйствительно создалъ въ Ромео и Юлiи трагедiю любви, для того, чтобы показать, какъ гибельна можетъ быть эта страсть, когда она переходитъ надлѣжащую мѣру, и что поэтому должно беречься въ подобномъ случаѣ вести дѣло дальше, чѣмъ слѣдуетъ? Если бы такъ, то онъ съ фантазiею величайшаго поэта соединялъ бы умъ обыкновеннаго (обыденнаго, дюжиннаго) нравоучителя, а подобное соединенiе не могло быть возможнымъ. Дѣлать шекспировскихъ героевъ отвѣтственными за ихъ страсти было бы дѣйствительно столь же умно, какъ еслибы кто вздумалъ сказать облакамъ: у васъ не должно быть такъ много электричества, чтобы вы не бросали такихъ большихъ электрическихъ искръ, такихъ губительныхъ ударовъ; потомучто вѣдь вы же видите, что своею молнiею вы легко зажигаете наши дома; поэтому и держитесь въ надлежащихъ границахъ (И. Н. Ф. Т. I, 252)».
Этими именно словами можно отвѣчать Гервинусу на его излишнюю заботливость о нравственности; заботливость, доходящую до того, что онъ не безъ паѳоса восклицаетъ: "какъ много лишняго щекотанья чувственности[3] устранялось (въ шекспировское время) и отъ зрителей, и отъ актеровъ только тѣмъ обстоятельствомъ, что на сценѣ не было женщинъ. Какъ облѣгчало это для зрителей и для актеровъ заботу о сущности искуства" (стр. 163).
Послѣ этого такъ и ждешь, что г. Гервинусъ станетъ сожалѣть, что женскiя роли въ операхъ исполняютъ женщины, а не кастраты, какъ это бывало въ доброе старое время.
Это подкладыванiе нравственныхъ сентенцiй подъ шекспировскiе характеры, это непониманiе жизни, вселюбящей и порою иронической, это умышленное тяготѣнiе къ выводу нравоученiй, – безъ сомнѣнiя сильно препятствуетъ Гервинусу взглянуть Шекспиру прямо въ глаза, спутываетъ его понятiя и доводитъ его иногда до скопческаго мiровоззрѣнiя.
И это бэконовская философiя? И это требованiе Бэкона, чтобы люди и ихъ страсти изображались живьемъ, "em ad ivum"?[4].
У Гервинуса есть этотъ "страхъ генiя", la crainte du gènie, который по Гюго составляетъ начало вкуса. Пародируя Фейербаха, мы прибавимъ: "но не конецъ его".
Въ самомъ дѣлѣ, во всей книгѣ многоученаго професора замѣчается, что уваженiе къ Шекпиру не родилось въ груди автора, что это не живое, органическое чувство, а прошлое, завѣщанное преданiемъ. Гервинусъ зналъ напередъ, что Шекспиръ великiй поэтъ; онъ на слово повѣрилъ этому, онъ не почуялъ этого и не увѣровалъ въ Шекспира. Въ немъ мало любви къ поэту, на изученiе котораго онъ посвятилъ много лѣтъ и «изъясняя котораго, извлекалъ для себя благороднѣйшiя наслажденiя». Оттого этотъ сдержанный, и даже сухой тонъ; это подъ-часъ утомительное изложенiе. Онъ не любитъ Шекспира душой, всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленiемъ; онъ хладнокровно изучаетъ его, какъ нѣчто весьма интересное, «etwas höchst interessantes». Въ его книгѣ много дѣльнаго краснорѣчiя, много прекрасныхъ замѣчанiй, и ни одного племеннаго, задушевнаго слова.
Ищите морали въ Шекспирѣ и вы, какъ нѣкiй (впрочемъ, очень талантливый) русскiй поэтъ, придете къ заключенiю, что Шекспиръ въ лицѣ Ричарда III казнилъ тиранство, и въ порывѣ обличенiя воскликните: "Яго живъ, да будетъ намъ чуждо коварство", или что нибудь въ этомъ родѣ.
У Гервинуса нѣтъ живаго образа Шекспира; и потому странно объясняетъ онъ отношенiя Шекспира къ его предшественникамъ, его такъ называемыя "заимствованiя". Умъ въ высшей степени оригинальный, Шекспиръ не могъ ни у кого заимствовать въ обыденномъ значенiи этого слова. Иногда Гервинусъ возвышаетъ Шекспира до небесъ, говоритъ, что онъ былъ "выше своего народа и времени"; иногда онъ унижаетъ дотого, что увѣряетъ, что "остроумный тонъ разговора, комическiе доводы, страсть къ уподобленiямъ, къ изумляющимъ отвѣтамъ (у Шекспира) – все это имѣетъ свой первообразъ у Лили", и у него заимствовано Шекспиромъ, что вторая и третья часть драматической хроники о Генрихѣ VI есть просто передѣлка хроникъ Грина: "первой части столкновенiя между двумя славными домами, «Iоркскимъ и Ланкастерскимъ» и «истинной трагедiи о Ричардѣ, герцогѣ iоркскомъ», того самаго Грина, который называлъ его, Шекспира – Shakescene (потрясателемъ сцены; если писать Shakespeare, то это будетъ значить – потрясающiй копьемъ), «вороной, украшенной нашими перьями» и «тигровымъ сердцемъ въ актерской шкурѣ».
Кто выше своего народа? Кто выше своего времени? Не пустыя ли это цвѣты краснорѣчiя? "Время на все, что совершается въ немъ", сказалъ Шекспиръ. Носитель и выразитель народныхъ думъ, "каждый вершокъ" котораго англичанинъ (each inch an Englishman), Шекспиръ не требуетъ себѣ такой похвалы, что онъ выше своего народа. Ему довольно сознанiя, что онъ высшiй выразитель духа своего народа. "Многообразна жизнь человѣка въ народѣ: – говоритъ Хомяковъ (I, 537) – она своею долею общечеловѣческаго достоянiя, ею схваченную и выраженную въ словѣ и бытѣ, складываетъ въ стройное, живое и сочлененное цѣлое; и человѣкъ, принимая въ себя всю эту жизнь, кладетъ стройную и сочлененную основу своему собственному пониманiю. И далѣе: "Ни одинъ изъ живыхъ народовъ не высказался вполнѣ. Его печатное слово, его пройденная исторiя выражаютъ только часть его существа, онѣ, если позволите такое слово, не адекватны (не въ версту) ему. Невысказанное, невыраженное таится въ глубинѣ его существа и доступно только ему самому и лицамъ, вполнѣ живущимъ его жизнiю". Такимъ именно человѣкомъ, "вполнѣ живущимъ жизнiю своего народа" и былъ Шекспиръ.
Чтобы понять всю силу народнаго духа англичанъ, всю его напряженность въ шекспировскую эпоху, стоитъ вспомнить блестящiй рядъ его знаменитыхъ современниковъ. Бэконъ и Шекспиръ являются въ одно время; оба – великiе представители своей народности, въ обоихъ отразился духъ народа съ двухъ разныхъ сторонъ. И этотъ великiй организмъ, народъ, ниже своихъ представителей!
Такiя мнѣнiя могутъ произносить только нѣмецкiе демократы! Гейне какъ то нечаянно проговорился, что хотя онъ очень любитъ нѣмецкiй народъ, но при встречѣ съ гамбургскимъ сапожникомъ, защищавшимъ его мнѣнiя, его порядочно покоробило. Я дескать хоть и демократъ, а все бы лучше, если бы у него руки были почище. Квази-аристократическая гадливость мѣшаетъ прямо смотрѣть на народъ. Наши разноцвѣтные и разношерстные либералы въ этомъ отношенiи послѣдовательнѣе: они умышленно забываютъ (игнорируютъ) о существованiи народа; они занимаются нивелированiемъ человѣческаго ума, или выражаясь современнѣе, выдѣлкою человѣческаго церебина по извѣстному образцу, еще не патентованному, но на который (успокойтесь)! будетъ въ скорости выдана привилегiя.
Теперь обратимся къ вопросу о "заимствованiяхъ". Повидимому, Гервинусъ совершенно правъ въ своихъ сужденiяхъ объ этомъ обстоятельствѣ. Комическiй тонъ Лили напоминаетъ Шекспира? Да, Гринъ раньше Шекспира написалъ свои хроники? Раньше. Сценарiй ихъ тотъ же, что во 2-й 3-й части трагедiи о Генрихѣ VI? Безспорно. Ну – что-же ну? Механически-поверхностный умъ придетъ именно къ тому заключенiю, что Шекспиръ заимствовалъ у Лили и Грина. Озлобленный на искуство "модныхъ бредней дурачокъ" абличитъ Шекспира въ литературномъ воровствѣ.
И вотъ Гервинусъ незамѣтнымъ образомъ оправдываетъ Грина, который своими площадными ругательствами доказалъ, какъ мало могъ у него заимствовать Шекспиръ.
Кажется, что Гервинусъ правъ, что онъ говоритъ дѣло, – exeptê que c'est tout-à-fait le contraire, какъ говорилъ одинъ французскiй капралъ, объясняя новобранцу, чѣмъ поворотъ направо-кругомъ отличается отъ поворота налѣво-кругомъ.
Въ чемъ же дѣло? "Художество", по справедливому замѣчанiю Хомякова, "не есть произведенiе единичнаго духа, но произведенiе духа народнаго въ одномъ какомъ нибудь лицѣ." Природа не бѣдна; она никогда не скряжничаетъ; даже скорѣй расточительна. И какъ ей не быть расточительной, когда она обладаетъ неисчерпаемыми, вѣковѣчными богатствами? Она высылаетъ въ мiръ предтечь, провозвѣстниковъ великихъ людей, которые прiуготовляютъ ему пути. За нимъ она высылаетъ апостоловъ, проповѣдниковъ того слова, которое опредѣлено было сказать великому человѣку. Мы помнимъ имена провозвѣстниковъ Шекспира, и этого веселаго Лили, и этого титаническаго Марлò, и даже этого завистливаго Грина, но помнили бы мы ихъ, еслибъ вслѣдъ за ними не явился Шекспиръ, которому они прiуготовили пути? Спасибо имъ всѣмъ, даже авторамъ пiесы "Феррексъ и Поррексъ", который ввелъ въ трагедiю такъ называемый англичанами "германскiй" размѣръ, не совсѣмъ точно именуемый Гервинусомъ пятистопнымъ ямбомъ!
Но все что являлось въ предшественникахъ Шекспира раздѣльно, выражая отдѣльныя черты народнаго духа, это нѣчто шекспировское, – все это совмѣстилось въ немъ сильно, цѣльно органически-стройно. И этотъ колосъ могъ заимствовать что нибудь у кого нибудь?
Все великое, и только великое, оригинально. Веселость Лили развѣ это въ сущности дѣйствительно шекспировская черта? Нѣтъ, этой чертой нельзя характеризовать великаго поэта; эта черта есть въ немъ, но въ соединенiи со множествомъ другихъ, и въ этомъ видѣ она совершенно не похожа на веселость Лили; свѣтъ и тамъ и здѣсь, но тамъ свѣтлякъ, а здѣсь солнце. И что общаго между ними?
Или этотъ титаническiй Марлò, выводящiй на сцену Тамерлана, идущаго по трупамъ народовъ, жестокаго и сверхчеловѣчески-мстительнаго "Мальтiйскаго Жида", – этотъ громадный, но нестройный гигантъ (есть въ немъ что-то допотопное, что-то напоминающее ихтiозавровъ и тому подобныхъ чудовищъ) – развѣ у него заимствовалъ, какъ полагаетъ Гервинусъ, Шекспиръ свой паѳосъ?
Или… но много можно подобрать подобныхъ примѣровъ, и на всѣ одинъ отвѣтъ: не правда.
Что это за мозаичный, рецепный Шекспиръ выйдетъ! Возьми веселость Лили, прибавь паѳоса Марло, любовь къ исторiи Грина, подсыпь еще кой чего, смѣшай все хорошенько и выйдетъ Шекспиръ.
И это человѣкъ, посланный – по слову Карляйля – повѣдать мiру, какъ жилъ и дѣйствовалъ человѣкъ въ среднiе вѣка!
О, туманная нѣмецкая философiя, которой такъ боится филистерство Гервинуса, никогда не приведетъ къ подобнымъ нелѣпостямъ! А ихъ говоритъ человѣкъ безспорно умный (но не глубокiй) одинъ изъ представителей современной германской литературы. О Германiя! какъ скоро ты позабыла своего великаго Шеллинга! Какъ мало многiе твои современные представители конгенiальны съ его живымъ, органическимъ умомъ!
Разсмотримъ теперь подробно насколько заимствовалъ Шекспиръ своего Генриха VI у Грина.
Г. Гервинусъ сильно порицаетъ Тика за то, что онъ "утверждаетъ, что ни одна изъ самыхъ лучшихъ и возвышеннѣйшихъ пьесъ Шекспира не можетъ сравниться съ его историческою трагедiею Генрихъ VI относительно плана. Когда Ульрици – продолжаетъ Гервинусъ – называлъ композицiю этой пiесы чисто шекспировскою, то очевидно, что оба критика не отдѣляли при этомъ формы отъ содержанiя и не сравнивали хроникъ, изъ которыхъ эти драмы заимствованы, съ ихъ поэтическою обработкою".
То, что дальше говоритъ Гервинусъ объ отношенiи Шекспира къ хроникѣ Голиншеда, ясно показываетъ, на сколько ему чуждо пониманiе исторической трагедiи. Этотъ родъ произведенiй не могъ развиться на нѣмецкой почвѣ, не могъ явиться у народа разбитаго на маленькiя кучки, не сознающаго своей нацiональности, ибо трудно предположить это сознанiе въ странѣ, гдѣ въ такомъ ходу чисто "баварскiя" чувства, истинно "прусскiй патрiотизмъ" и тому подобныя диковинки; у народа, толкующаго весьма краснорѣчиво о своемъ единствѣ, которое давнымъ давно засѣло какъ ракъ на мели.
Великiй Шиллеръ служитъ яснымъ доказательствомъ этого; его Валенштейнъ слабъ, какъ драма, и особенно какъ историческая драма. Для того, чтобы ввести читателя въ изображаемую имъ эпоху, Шиллеръ написалъ знаменитый прологъ "Валенштейновъ Лагерь", – но эта картина солдатской жизни стоитъ отдѣльно, не связана органически съ двумя послѣдующими частями трагедiи. За тѣмъ, въ самой трагедiи любовь Макса Пиколомини къ Теклѣ занимаетъ почти столь же важное мѣсто, какъ и самъ Валенштейнъ, тогда когда она должна бы подчиняться главному дѣйствiю.
Г. Гервинусъ находитъ, что "нечего слишкомъ много говорить о планѣ и ходѣ той пiесы, которая за немногими исключенiями и погрѣшностями, совершенно просто слѣдуетъ ходу хроники, какъ бы снимая одинъ за другимъ отдѣльные слои сюжета". Но как же могло иначе быть? Именно такъ и долженъ поступать поэтъ, пишущiй историческую трагедiю; притомъ понимать подъ планомъ пiесы только чередованiе сценъ, – значитъ, считать планъ не органически связаннымъ съ самой сущьностью пiесы дѣломъ, а единственно механическими перегородками, ящичками, въ которые поэтъ укладываетъ извѣстные дiалоги дѣйствующихъ лицъ. При такомъ пониманiи, вообще нельзя восхищаться ни однимъ планомъ. Мы понимаемъ планъ, какъ понималъ его Пушкинъ, говоря "одинъ планъ Божественной Комедiи – безсмертенъ"; это пониманiе плана, какъ органически-связаннаго съ драмой, – есть высшее пониманiе, и намъ стыдно понимать его какъ нибудь мельче, ниже. Въ томъ-то и дѣло, что у Шекспира чередованiе сценъ не случайное, а живое, и поэту нужно возсоздать историческое лицо въ различные моменты его жизни. Въ лѣтописи, въ хроникѣ, рѣдко характеръ рисуется вполнѣ, живьемъ; важно то, чтобы хроника была правдива. Поэтъ долженъ по этимъ драгоцѣннымъ намекамъ, какъ палеонтологъ по костямъ и черепкамъ, создать живое лицо. Такой то поступокъ кажется не естественнымъ, кажется непринадлежащимъ этому историческому лицу, повидимому противорѣчитъ всѣмъ его другимъ поступкамъ, – и огромной проницательностiю долженъ въ подобномъ случаѣ обладать поэтъ. Если онъ прямо заподозритъ данный фактъ въ невѣрности, – то можетъ жестоко ошибиться, лишить историческое лицо характерной черты. Уяснить эти противоположности, по отдѣльнымъ чертамъ угадать типъ – вотъ задача.
Далѣе, поэтъ долженъ угадать судьбу изображаемой имъ эпохи. Такъ, судьба Донъ Карлоса напр. ясно подчинена волѣ Филиппа: этотъ послѣднiй есть человѣкъ – носитель нетолько своей собственной судьбы, но судьбы всего своего времени. Что передъ нимъ слабовольный Карлосъ! На личности сего послѣдняго не могла быть основана драма, да у Шекспира онъ вышелъ слабъ и блѣденъ, и безъ сомнѣнiя самое живое, самое типическое и полное лицо во всей трагедiи Филиппъ. Художественная ошибка Шиллера ясна для каждаго, хотя немного одареннаго художественнымъ чутьемъ. Личность самаго маркиза Позы много бы выиграла отъ прямого сопоставленiя съ личностiю Филиппа; конечно, любовь Донъ Карлоса къ мачихѣ отошла бы на второй планъ, за то вся трагедiя выиграла бы въ цѣльности и стройности, и благородному Позѣ не пришлось бы играть не совсѣмъ благовидную роль по сближенiю Донъ Карлоса съ Изабеллой[5].
Такой ошибки нѣтъ у Шекспира, а такова именно ошибка автора (будь онъ Гринъ, или кто другой) "истинной трагедiи о Ричардѣ, герцогѣ iоркскомъ", – ошибка видная изъ самаго названiя пiесы. У Шекспира, напротивъ, трагедiя построена на Генрихѣ VI; у него онъ именно и есть человѣкъ-носитель своей собственной судьбы и судьбы своего времени. Для читателя ясно, что именно при такомъ королѣ могли сложиться такiя событiя; могли такъ рѣзко и отчетливо высказаться характеры и горячаго, честолюбиваго Соффолька, и благороднаго Гемфрея, герцога Глостера, и кроваваго Клифорда, и iезуитски-завистливаго кардинала Бофорта, и благороднаго, воинственнаго Тальбота, и "французской волчицы", королевы Маргариты. И какъ выдержаны всѣ эти характеры! Какъ хорошо рисуется напр. сынъ герцога Iорка, этотъ горбунъ съ "ворчливымъ голосомъ", про котораго отецъ говоритъ:
Мой Ричардъ! трижды прорубалъ ко мнѣОнъ улицу и трижды онъ кричалъ:«Смѣлѣй, отецъ! Пусть мечъ рѣшаетъ дѣло!»и далѣе:
…Когда шаталисьРяды смѣлѣйшихъ, Ричардъ мой кричалъ:«Ломи! не уступай врагу ни пяди!»этотъ горбунъ, который постоитъ за себя и будетъ современемъ королемъ Ричардомъ III-мъ.
Это уже чисто шекспировская черта, понять судьбу времени и на ней основать драму. А г. Гервинусъ огромное впечатлѣнiе этой великой трилогiи объясняетъ тѣмъ, что въ ней есть правосудное возмездiе каждому по дѣламъ его; но прибавляетъ, что даже это юридическое возмездiе, «которое кажется столь поэтическимъ и стройно-распредѣленнымъ, просто заимствованнымъ изъ хроники». О, моралисты, полагающiе, что природѣ нѣтъ инаго дѣла, какъ наказывать порокъ и возвышать добродѣтели, да постоянно читать, подобно нѣмецкому пастору, нравоученiя!
И какiе натяжки дѣлаетъ почтенный професоръ, чтобъ вытащить за уши эту, по его мнѣнiю, глубокомысленную мораль. А судьба Глостера, а судьба Ричарда? Или послѣднiй получаетъ достойную мзду впослѣдствiи? "Ричардъ палъ – урокъ тиранамъ", какъ говоритъ современный поэтъ.
Отъ этого главнаго недоразумѣнiя происходятъ и всѣ другiя ошибки почтеннаго нѣмецкаго ученаго. Такъ, онъ осуждаетъ Шекспира за то, что онъ "подобно хроникѣ, выводитъ рядъ сценъ, которыя (какъ напр. анекдотъ объ оружейникѣ и хромомъ Симпкоксѣ) находятся въ весьма слабой связи съ великимъ ходомъ цѣлаго". Именно, этотъ анекдотъ и необходимъ въ исторической трагедiи; онъ чрезвычайно характеризуетъ время; онъ перестаетъ быть анекдотомъ потомучто въ немъ дѣйствуютъ живыя лица. И какъ славно обрисовывается въ немъ простой и дѣльный взглядъ на вещи Гемфрея, герцога Глостера.