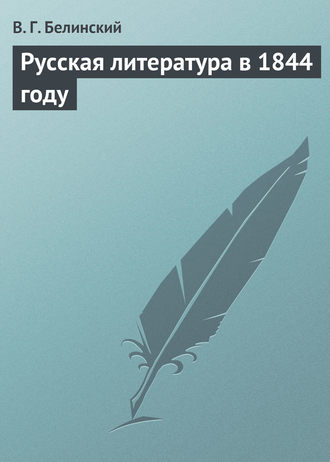 полная версия
полная версияРусская литература в 1844 году
Теперь сравните с этим романсом идеальной русской девы XVI века эту романтическую песню донского казака XVII столетия (из трагедии «Стенька Разин») и решите сами, в которой из двух пьес стихи лучше:
Тихий Дон, страна родная,Первых радостей приют,Где свобода золотая,Где мечты мои живут,Где певец, безвестный в мире,Вдохновений тайных полн,Я вверял несмелой лире,В челноке, на лоне волн,И мечты, и вдохновенье,И любви мой идеал,И в горящем песнопеньиВсю природу обнимал!Помню, помню те мгновенья,Как певец героем стал:Саблей – радость вдохновенья,Пулей – лиру заменял;Как в азовские твердыниС свистом ринулся свинецИ в далекие пустыниМчался юноша-певец;На коне, с мечом во длани,Несся вихрем по полям,Громоносным богом брани,Смертью, гибелью врагам.В «Димитрии Самозванце» г. Хомяков обнаружил притязания на историческое изучение. Но историческое изучение только тогда полезно для поэта, желающего воспроизвести в своем творении нравственную физиономию народа, когда в самой натуре, в самом духе этого поэта есть живое, кровное сродство с национальностью изображаемого им народа. Таким поэтом был Пушкин, и потому он национален не в одних только тех своих произведениях, в которых изображал русскую действительность. Этого рода национальность дается не всякому, кто только вздумает писать стихи или кто воображает себя действительно проникнутым любовью к своему родному. Чем поэт огромнее, тем он и национальнее, потому что тем более сторон национального духа доступно ему. Но бывают таланты односторонние, не великие и вместе глубоко, хотя и односторонне национальные: таков был талант Кольцова, в безыскусственных звуках которого высказывалась душа чисто русская. Изучение истории и нравов народа может только усилить, так сказать, талант поэта, но никогда не даст оно ему чувства народности, если его не дала ему природа. Вот почему в «Димитрии Самозванце» видна более или менее ловкая подделка под русскую народность, но нет ни одного истинного проблеска русской народности. Видим лица, видим события, видим русские слова, но не видим того, что давало бы смысл, было бы ключом к разгадке этих лиц и событий. Самозванец и Ляпунов г. Хомякова говорят, кажется, по-русски, а между тем оба они какие-то романтические мечтатели двадцатых годов XIX столетия, следовательно, нисколько не русские начала XVII века. А между тем эта трагедия написана после «Бориса Годунова» Пушкина!.. Мы сказали, что в ней видна более или менее ловкая подделка под русскую народность: но какая разница между подделкою русского поэта г. Хомякова под русскую народность и подделкою француза Мериме под народность песен юго-западных славян. Мериме не знал ни одного славянского языка, не был ни в одной славянской земле, писал эти песни во Франции, руководствуясь только одною маленькою брошюрою и одним итальянским сочинением, имеющими некоторое отношение к песням сербов, далматов, босняков и пр. Мериме сочинил эти песни «pour se moquer de la couleur locale»[12] и ввел в заблуждение Мицкевича и Пушкина, которые оба признали эти песни подлинными, а последний даже большую часть их переложил по-русски превосходнейшими стихами.{38}
Защитники г. Хомякова говорят, что драма – не его призвание, что он лирик. Из романса Ольги можно видеть характер лиризма г. Хомякова. Прежде чем быть лириком, надо быть поэтом. Лиризм еще больше, нежели всякий другой род поэзии, основывается на непосредственности теплого сердечного чувства и не терпит холодных головных чувств, которые выдаются за мысли, но которые, в сущности, так же относятся к мыслям, как ум к умничанью, чувство к сентиментальности, щеголеватость к изяществу. Посмотрим на лиризм г. Хомякова в его лирических произведениях. Первое из них – «К иностранке», может служить образцом всего лиризма г. Хомякова:
Вокруг нее очарованье,Вся роскошь юга дышит в ней,От роз ей прелесть и названье,От звезд полудня блеск очей.Прикован к ней волшебной силой,Поэт восторженный глядит,Но никогда он деве милойСвоей любви не посвятит.Пусть ей понятны сердца звуки.Высокой думы красота;Поэтов радости и муки.Поэтов чистая мечта.Пусть в ней душа как пламень ясный,Как дым молитвенных кадил,Пусть ангел светлый и прекрасныйЕе с рожденья осенил;Но ей чужда моя Россия,Отчизны (чьей?) дикая краса,И ей милей страны другие,Другие лучше небеса.Пою ей песнь родного края —Она не внемлет, не глядит.При ней скажу я: «Русь святая!»И сердце в ней не задрожит.И тщетно луч живого светаИз черных падает очей;Ей гордая душа поэтаНе посвятит души своей.{39}Не будем говорить о том, что в этом стихотворении нет ни одного поэтического выражения, ни одного поэтического оборота, которые встречаются даже в стихотворениях г. Бенедиктова, риторизм которых не чужд какой-то поэтической струйки; не будем доказывать, что все это стихотворение – набор модных слов и модных фраз, в которых прозаическая нищета чувства и мысли так и бросается в глаза. Вместо этого лучше разберем то будто бы чувство, ту будто бы мысль, которые положены в основу этой пьесы, и обнаружим всю их ложность, неестественность и поддельность. Поэт смотрит на прекрасную женщину и задает себе вопрос: любить ему или нет? Видите ли, как влюбляются поэты! Совсем не так, как простые смертные, не так, как всякое существо, называющееся человеком: человек влюбляется просто, без вопросов, даже прежде, нежели поймет и сознает, что он влюбился. У человека это чувство зависит не от головы, у него оно – естественное, непосредственное стремление сердца к сердцу. Но наш поэт думает об этом иначе. Задав себе глубокомысленный вопрос: любить или нет? – он не почел за нужное даже погадать на пальцах и отвечает решительно: «нет!» Бедная женщина, бедная иностранка! Какого сердца, какого сокровища любви лишилась она! О, если б она поняла это!.. Нам как-то и скучно и совестно рассуждать о таких незамысловатых вещах; но быть так: начав, надо кончить, тем более что это для многих поэтов и не-поэтов может быть полезно. Мы понимаем, что человек может любить женщину и в то же время не хотеть любить ее; но в таком случае мы хотим видеть в нем живое страдание от этой борьбы рассудка с чувством, головы с сердцем: только тогда его положение может быть предметом поэтического воспроизведения, а иначе оно – прихоть головы, ложь, годная только для сатиры, для эпиграммы; посмотрите же, как рассудителен, как благоразумен, как спокоен наш поэт; доказав себе силлогизмом, что ему не следует любить иностранку, которая зевает, слушая его родные песни и патриотические восклицания по той простой причине, что не понимает их, он так доволен собой, что в состоянии сейчас же сесть за стол и начать завтракать или обедать. Где же тут истина чувства, истина поэзии? Тут нет ничего похожего на чувство и поэзию. И таковы-то все лирические стихотворения г. Хомякова! У этого поэта родник вдохновения бьется не в сердце, так же как у Сампсона сила была не в мышцах, а в волосах; но Сампсон, несмотря на то, оказывал опыты сверхчеловеческой силы: где же опыты нашего поэта? А вот поищем…
Не презирай клинка стальногоВ обделке древности простой,И пыль забвенья вековогоСотри заботливой рукой.{40}Что такое: обделка простой древности? Какой смысл этого кудреватого выражения? Далее в этом стихотворении есть мечи с красивою оправой, которые блистают тщетною забавой??!!.. Наконец голос брани воскрешает губительный порыв булата… Восточные жители поэзию называют искусством «нанизывать жемчуг на нить описаний»; как недалеко ушли от персиан многие из наших так называемых «поэтов», которые насмешливо улыбаются над турецким определением поэзии, а между тем сами, думая творить, только нанизывают пустозвонные фразы на нить какой-нибудь бедной рефлексии! У г. Хомякова есть пьеса «Вдохновение»; прекрасно! Мы от самого г. Хомякова узнаем, как он понимает вдохновение:
Лови минуту вдохновенья,Восторгов чашу жадно пейИ сном ленивого забвеньяНе убивай души своей.Что значит ловить минуту вдохновения? – Не тратить времени, но писать, когда почувствуешь наитие вдохновения? Если так, – оно справедливо, как дважды два – четыре, но точно так же и не ново. Или, может быть, поэт под словом «лови» разумел настоящую ловлю и хотел сказать: ищи вдохновения, гоняйся за ним? – Если так, то это самое ложное понятие о вдохновении: его не ищут, оно приходит само. «Восторгов чашу жадно пей»; что такое чаша восторгов? и каких восторгов? Слово восторг может употребляться во множестве самых разнообразных и самых противоположных значений; для одного чаша восторгов заключается в штофе полугара, для другого в бутылке шампанского, а для третьего – в знании истины. Первые чаши можно пить жадно когда угодно, если кто полюбит такие восторги; третью чашу можно опять пить когда угодно и сколько угодно, но для этого требуется жажда истины, самоотвержение труда. Одним словом, когда в стихотворении не определено, о каких восторгах идет дело, такое стихотворение легко можно принять за набор звучных слов. Но это бы еще куда ни шло; а вот скажите нам ради грамматики, ради логики, ради здравого смысла, что такое: сон ленивого забвенья? – Просим вас: объясните нам, по каким законам мысли человеческой сошлись рядом эти три слова, не образующие собою не только идеи какой-нибудь, но даже и какого-нибудь смысла? Неужели это лирический пафос?..
И если раз, в беспечной лени,Ничтожность мира полюбив,Ты свяжешь цепью наслажденийДуши бунтующий порыв, —К тебе поэзии священнойНе снидет чистая роса, и пр.Связать цепью наслаждений (каких?) бунтующий порыв души, какая великолепная шумиха бедных значением слов! Какая неопределенность понятий! Цепь наслаждений, а каких? Ведь и пить чашу восторгов – тоже наслаждение! Скажут: поэтическое произведение – не диссертация; краткость выражений есть первое его достоинство, а прозаическая обстоятельность – главнейший недостаток. Так; но отчего, например, у Пушкина, у Лермонтова одно слово по своей резкой определительности иногда заключает в себе самую обстоятельную диссертацию в прозе? Оттого, что оба они поэты, и притом еще великие. И потом какая сухая отвлеченность в понятии г. Хомякова о сущности поэта: он делает из поэта то, чем поэт никогда не бывал и никогда быть не может: существо безгрешное, не падающее, не спотыкающееся. По его мнению, согреши поэт раз в жизни, – и навсегда прощай его вдохновение. Чтоб предупредить это несчастие, он дает ему рецепт: живи-де беспрестанно в поэтических восторгах, то есть будь шутом на ходулях, повтори собою лицо манчского витязя, дона-Кихота, который даже и спал в своем картонном шлеме, даже и во сне сражался с баранами и мельницами… Нет, не таков поэт: зовем в свидетели Пушкина, который сказал, что часто «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее поэт, пока не коснется его слуха божественный глагол и пока не встрепенется душа его, как пробудившийся орел». Когда, поэзия есть живой глагол действительности, – она великая вещь на земле; но когда она силится сделать существующим несуществующее, возможным невозможное, когда она прославляет пустое и хвалит ложное, тогда она не более, как забава детей, которым деревянная лошадка нравится более настоящей лошади… И не поэт тот, кто лишен всякого такта действительности, всякого инстинкта истины; не поэт он, а искусник, который умеет плясать с завязанными глазами между яйцами, не разбивая их… Такой поэт похож на тех жонглеров диалектики, которым все равно, о чем бы и как бы ни спорить, лишь бы только оспорить противника; которые, доказав одному, что дважды два – четыре, с тем же жаром доказывают другому, что дважды два – пять, и для которых важнейший результат спора есть не истина, а суетное, мелочное удовольствие: переспорить другого и остаться победителем, хотя бы то было насчет здравого смысла и добросовестности.
Но мы несколько отдалились от нашего предмета – от стихотворений г. Хомякова: возвратимся к ним. Пока мы не нашли никаких признаков поэзии в простых лирических его стихотворениях, может быть, поэзия скрывается в его прорицательных лирических пьесах? – А вот посмотрим. В стихотворении к «России», г. Хомяков дает своему отечеству истинно отеческие наставления: он запрещает ему чувство гордости и рекомендует смирение. Он говорит России:
Грозней тебя был Рим великий;Царь семихолмного хребта,Железных сил и воли дикойОсуществленная мечта,И нестерпим был огнь булатаВ руках алтайских дикарей.Какие великолепные, энергические и поэтические стихи! Сам Пушкин никогда не писывал таких чудно-прекрасных стихов! Мы очарованы и увлечены ими; однакож не до такой степени, чтоб не могли осведомиться скромно о том, что скрывается в этих дивных стихах. И потому берем на себя смелость спросить кого бы то ни было – самого поэта или наших читателей: что такое царь семихолмного хребта и что такое семихолмный хребет? Что Рим построен будто бы на семи холмах, случалось слышать и нам; но чтоб он был построен на хребте гор, – это едва ли кому случалось слышать. Что такое: осуществленная мечта железных сил и дикой воли? Еще, если бы дело шло только об осуществленной мечте железной силы (а не железных сил), мы кое-как поняли бы мысль поэта; но почему воля римлян (а римляне действительно были по преимуществу народ воли, как греки – народ эстетического чувства) была дикая, не понимаем. Она может быть сильною, несокрушимою, железною, если угодно даже стальною, хоть это и довольно пошлый эпитет, гордою, непреклонною; но дикою, нет, не понимаем, совсем не понимаем!.. Позвольте, кажется, поняли! Да, так, точно так: воля римлян сделалась для того дикой, чтоб богато рифмовать с словом великий… Что такое: огнь булата? Опять не понимаем! Острие, тяжесть, сила булата – это мы понимаем, но огнь булата… Не понимаете ли вы, господа защитники гения г. Хомякова, что такое: огнь булата?..
Итак, вот они – эти великолепные, энергические и поэтические стихи: sic transit gloria mundi!..[13]
В другом стихотворении г. Хомяков предрекает скорую гибель Англии. Сперва он расхваливает ее, называет «счастливою» и «богатою» (вероятно, метя на детей, работающих в рудокопнях), а потом начинает бранить:
Но за то, что ты лукава;Но за то, что ты горда,Что тебе мирская славаВыше божьего суда;Но за то, что церковь божьюСвятотатственной рукойПриковала ты к подножьюВласти суетной, земной…Для тебя, морей царица,День придет, и близок он —Блеск твой, злато, багряница,Все пройдет, минет как сон…{41}Что это такое? – иеремиада по папской власти, некогда повелевавшей царями и народами?.. Да разве в одной только Англии служители церкви введены в истинные пределы их обязанностей, высоких, священных, но уже потому самому не суетных, земных? В наш просвещенный век европейскими народами правит везде светская власть, кроме Турции, в которой законы и даже власть султана зависят от мнения улемов и муфтиев. Мы не берем на себя высокой роли предрекать скорый конец народам и государствам: ведь существование народов и государств – не то, что существование каких-нибудь стихотворений, которое зависит иногда от первой дельной критики… Мы не думаем, чтоб Англия так-таки вот взяла да и окончила смертию живот свой, прочитав стихотворение г. Хомякова: от него и вздремнуть довольно, и то не Англии, а какому-нибудь русскому читателю. Но что Англия может много потерпеть за то, что в ней бедные люди беспрестанно или умирают голодною смертью, или предупреждают смерть самоубийством, – это другое дело…
В стихотворении «Мечта» наш поэт оплакивает близкую гибель Запада, где «кометы бурных сеч бродили в высоте»… При сей верной оказии он почел нужным даже похвалить покойника, в котором много-де было хорошего, —
Но горе! век прошел – и мертвенным покровомЗадернут Запад весь! там будет мрак глубок.Услышь же глас судьбы, в сияньи новом,Проснися, дремлющий Восток!Г. Хомяков очень хорошо сделал, что догадался потолкать в бок этого лежня, Восток, который без трескучей стукотни его удивительных стихов, вероятно, и не подумал бы даже потянуться или зевнуть во сне, не только проснуться. Такова уж восточная натура: ей хоть весь свет провались, все спит; к восточному человеку очень идут эти стихи Тредьяковского.
Аще мир сокрушен распадется,Сей муж николи ж содрогнется.Все это хорошо, но вот вопрос: что разумеет г. Хомяков под «Востоком»? По крайней мере, что касается до нас, – мы так горды чувством нашего национального достоинства, что под Востоком не можем разуметь Россию. Ведь Запад – Европа, а Восток – Азия? Россия же принадлежит к Европе и по своему географическому положению, и потому, что она держава христианская, и потому, что новая ее гражданственность – европейская, и потому, что ее история уже слилась неразрывно с судьбами Европы. Кажется, так, г. поэт? Кого же вы будите? Каких вранов призываете вы на мнимый труп Запада торжествовать мнимую гибель цивилизации, смерть света и праздник тьмы? – Верно, турков и татар? – Ну, турки и татары, просыпайтесь на голос вашего прорицателя; по его уверению, Запад не нынче, завтра скончается, и наступит ваш черед, потомки Чингис-ханов и Тамерланов.
Г. Хомяков писал очень мало и притом издал не все написанное и напечатанное им в журналах; в его крохотной книжечке нет по крайней мере десятка его стихотворений и, между прочим, той чудной импровизации («Московский вестник», 1828), которая начинается так:
В стаканы чокИ в зубы чмок!На долгий срок,Друзья, прощайте!Лечу к боям,К другим краям,Во след орлам;Чок – выпивайте!{42}Но нисколько нет удивительного, что г. Хомяков так мало написал: хорошего понемножку. Кроме того, нам что-то сдается, что каждое его стихотворение писалось долго, что между одним и другим стихом иного его стихотворения ложились месяцы и годы промежуточного времени… Что ж! тем лучше выходили стихотворения!..
Нам, может быть, заметят, что мы противоречим сами себе, уверяя, будто г. Хомяков не поэт, и в то же время говоря о его произведениях, как о чем-то важном. Мы пишем не для себя, а для публики: в ней могут найтись люди, которые, пожалуй, поверят возгласам одного журналиста, уверяющего, что г. Хомяков – великий и национальный русский поэт. «Отечественные записки» в прошлом году, при выходе стихотворений гг. Языкова и Хомякова, говорили о них не только с умеренностью, но и с снисходительностью. Что ж вышло из того? – Журнал, в котором исключительно печатаются стихотворения обоих этих поэтов, умалчивая о г. Языкове, по поводу стихотворений г. Хомякова объявил, что этот поэт велик, а «Отечественные записки» никуда не годятся, потому что не признают его великости. Затем он перепечатал почти всю книжку стихотворений г. Хомякова и, сочтя это за неопровержимое доказательство их высокого достоинства, заключает так: «Не правда ли, читатели, что надо быть слишком наглу, слишком дерзку, чтоб ругать такие С(с)тихотворения. И какие несчастные бредни выставляют П(п)ублике на поклонение «Иностранные записки» вместо Хомяковых и Языковых!»{43} Не знаем, согласились ли с этим журналом его читатели; не считаем важным суждение его о нашем журнале и наших мнениях, ровно как и обо всем, о чем он судит; но не можем не выставить на вид, что если существует журнал, который до того убежден в великости и национальности г. Хомякова как поэта, что печатно называет дерзкими и наглыми ругателями и иностранцами всех, кто не согласен с ним во мнении о г. Хомякове, – стало быть, существуют и люди, которые думают и чувствуют точно так же, как этот журнал; вот для этих-то людей (а совсем не для этого журнала) и пишем мы. Поэт с поддельным дарованием, но никем не замечаемый, никаким печатным крикуном не провозглашаемый, неопасен в отношении к порче общественного вкуса: о нем можно при случае отозваться с легкой улыбкой – и все тут. Но поэт с дарованием слагать громкие слова во фразистые стопы, поэт, который заменяет вкус, жар чувства и основательность идей завлекательными для неопытных людей софизмами ума и чувства, а между тем имеет усердных глашатаев своей великости, – воля ваша, надо предположить в критике рыбью кровь, если она может оставаться равнодушною к такому явлению и со всею энергиею не обнаружит истины.
Может быть, нам еще заметят, что способ нашего анализа, состоящий в разборе фраз, мелочен. Дело не в способе, а в его результатах; да, кроме того, это единственный и превосходный способ для суждения даже и не о таких поэтах, каковы Марлинский, гг. Языков, Хомяков, Бенедиктов и другие в том же роде. Многие фразы с первого раза кажутся блестящими, поэтическими и заключающими в себе глубокие идеи; но если вы не поторопитесь, отдавшись первому впечатлению, произнести о них суждение, а хладнокровно спросите самих себя: что значит вот это, что хотел сказать поэт вот этим? – то с удивлением увидите, что это сначала так поразившее вас стихотворение – просто набор пустых слов…
Кроме двух книжечек стихотворений гг. Языкова и Хомякова, в прошлом году вышла еще книжечка стихотворений г. Полонского под скромным названием «Гаммы». Г. Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделают человека поэтом. Но и одного этого также еще слишком мало, чтобы в наше время заставить говорить о себе как о поэте. Знаем, знаем, – скажут многие: нужно еще направление, нужны идеи!.. Так, господа, вы правы; но не вполне: главное и трудное дело состоит не в том, чтоб иметь направление и идеи, а в том, чтоб не выбор, не усилие, не стремление, а прежде всего сама натура поэта была непосредственным источником его направления и его идей. Если б сказали Лермонтову о значении его направления и идей, – он, вероятно, многому удивился бы и даже не всему поверил; и не мудрено: его направление, его идеи были – он сам, его собственная личность, и потому он часто высказывал великое чувство, высокую мысль в полной уверенности, что он не сказал ничего особенного. Так силач без внимания, мимоходом, откидывает ногою с дороги такой камень, которого человек с обыкновенного силою не сдвинул бы с места и руками. Повторяем: в наше время трудно быть таким поэтом, которого бы все знали и о котором бы все говорили; другими словами: в наше время трудно поэту приобрести славу. Это потому, что в наше время еще являются таланты и много умных людей, между тем как наше время обращает внимание только на замечательные натуры.
Из отдельно вышедших в прошлом году поэтических произведений в стихах самым замечательным, без сомнения, было «Наль и Дамаянти», индийская поэма, с немецкого перевода Рюккерта, переведенная Жуковским на русские гекзаметры, легкие, светлые, прозрачные, грациозные и пленительные. Вместе с другими произведениями Жуковского, помещаемыми им в разных журналах с 1837 года, «Наль и Дамаянти» составила потом девятый том полного собрания сочинений знаменитого поэта. – Новое издание басен Крылова с прибавлением новой, девятой, части, также составляет одно из блестящих приобретений литературы прошлого года. Но это было последнее издание при жизни маститого поэта, так же как этот год был последним в его жизни… Крылов – сам талант огромный и человек замечательный, был ровесник русской литературы. О таком явлении можно сказать больше, нежели сколько было о нем сказано: в следующей книжке «Отечественных записок» мы в особой статье выполним наш долг перед Крыловым и публикою.{44} – В прошлом же году вышли: четвертая (и последняя) часть «Стихотворений Лермонтова»; перевод «Гамлета» г. Кронеберга; перевод г-на Вронченко «Фауста» Гёте[14]; третье издание «Героя нашего времени»; «Сочинения князя Одоевского»; второе издание первого тома повестей графа Соллогуба под общим названием «На сон грядущий». Из стихотворений Лермонтова, вошедших в четвертую часть, две пьесы: «Пророк» и «Свидание» – сделались известными только в прошлом году и сперва были напечатаны в третьей книжке «Отечественных записок». Сочинения князя Одоевского, доселе рассеянные во множестве периодических изданий почти за двадцать лет, будучи теперь собраны вместе и изданы в трех уемистых томах, как бы возвратили публике одного из лучших ее писателей, с которым она привыкла встречаться только изредка и не надолго. Теперь сочинения князя Одоевского уже не отрывки, не отдельные пьесы, но нечто целое и полное, отразившее на себе дух и направление писателя замечательного и даровитого.
Вот все, что вышло достойного внимания в продолжение прошлого года по части изящной литературы. Надо согласиться, что очень немного! Остального должно искать в журналах, к чему мы сейчас же и приступим. Но прежде сделаем одну оговорку: мы будем упоминать только о замечательных в каком бы то ни было отношении явлениях, а все, что мы не считаем ни в каком отношении замечательным, пройдем молчанием. Таким образом, мы даже и журналы не все назовем по имени; тем менее намерены мы судить о их достоинствах и недостатках. Да и к чему? – Если они издаются, значит их кто-нибудь да читает же и кому-нибудь они нравятся же. Переубедить этих «кого-нибудь» так же невозможно, как и доказать самим этим журналам, что они напрасно издаются; если же мы предприняли бы это бесполезное дело, – за что же большинство публики, не подозревающей существования этих журналов, должно было бы терпеть скуку подобных рассуждений и толков? Нет ничего труднее, скучнее и бесполезнее, как говорить о вещах отрицательно хороших или отрицательно дурных. Из журналов настоящего времени нам остается говорить только о нашем собственном журнале, о «Библиотеке для чтения» и о «Москвитянине», примечательном в том отношении, что он единственный журнал в Москве. Из газет – об «Инвалиде», «Северной пчеле» и «Литературной газете»[15].









