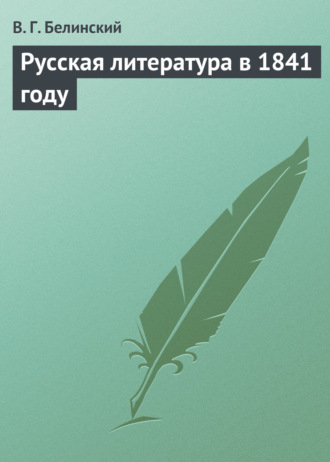 полная версия
полная версияРусская литература в 1841 году
Г-н Панаев напечатал в прошлом году две повести: «Онагр» («Отечественные записки», № 5). и «Барыня» (в первом томе «Русской беседы»), принадлежащие к замечательнейшим явлениям прошлогодней литературы. «Барыня» особенно хороша: в ней столько характеристического, верного, ловко и цепко схваченного. Впрочем, каждая новая повесть г. Панаева бывает лучше предшествовавшей, в чем читатели наши особенно могут убедиться по «Актеону». Это добрый знак: развитие и движение вперед есть несомненное доказательство истинного дарования…
В «Отечественных записках» обратили на себя внимание избраннейшей части публики две повести А. Н. (псевдоним):{119} «Звезда» (№ 3) и «Цветок» (№ 9). Они отличаются особенным, самостоятельным характером и обнаруживают в авторе дар творчества, который, при условии развития, может обещать много в будущем. «Звезда» особенно хороша по какому-то грустному и зловещему колориту, разлитому по фону картины. К особенностям обеих повестей принадлежит какая-то вкрадчивая, завлекающая внимание читателя верность в малейших подробностях изображаемой действительности и необыкновенное умение завязать целую драму на самых, по-видимому, обыкновенных, вседневных случайностях. Рассказ столько же простой, сколько увлекающий и поэтический. А. Н. написал уже не одну прекрасную повесть; в «Телескопе» 1836 года были напечатаны его «Катенька Пылаева» и «Антонина»; в «Московском наблюдателе» 1838 и 1839 гг. – «Одни сутки из жизни холостяка» и «Флейта»; в «Отечественных записках» 1840 – «Недоумение». Общий недостаток почти всех его повестей состоит в том, что женские характеры изображаются в них типически, искусно, верно, а мужские большею частию бледно и бесцветно.
В «Библиотеке для чтения» была только одна оригинальная повесть, но зато прекрасная: мы говорим о «Теофании Аббиаджио» (№№ 1 и 2) г-жи Ган, обыкновенно подписывающейся Зенеидою Р-вою. Г-жа Ган принадлежит к примечательнейшим талантам современной литературы. В ее повестях заметен недостаток такта действительности, умения схватывать и изображать с ощутительною точностию и определенностию самые обыкновенные явления ежедневности. Но этот недостаток вознаграждается внутренним содержанием, присутствием живых, общественных интересов, идеальным взглядом на достоинство жизни, человека и женщины в особенности, полнотою чувства, электрически сообщающегося душе читателя. Поэтому часто в повестях г-жи Ган внешнее содержание, завязка и развязка бывают не совсем правдоподобны и естественны, как, например, в повести «Идеал», где женщина, одаренная глубоким чувством, увлекается поэтом, который оказывается негодяем, и потом удивляется, как можно быть таким «небесным» в своих сочинениях и «земным» в своей жизни: тут что-нибудь да не так – или героиня повести не довольно имела эстетического такта, чтоб не очароваться пустыми фразами, или поэт не был негодяй. Очевидно, что сюжет для г-жи Ган имеет значение оперного либретто, на которое она потом пишет музыку своих ощущений и мыслей. И в самом деле, эти ощущения у ней иногда возвышаются до пафоса, – и мы ничего не сказали бы о ее повестях, если б не выписали из них хотя нескольких строк, характеризующих ее талант. Вот, например, вдохновенная выходка женского чувства, оскорбленного предательскою мишурою общественного мнения о значении женщины:
Но какой злой гений так исказил предназначение женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчин, рядиться, плясать, владычествовать в обществе, а на деле быть бумажным шахом, которому паяц кланяется в присутствии зрителей и которого он бросает в темный угол наедине. Нам воздвигают в обществах троны; наше самолюбие украшает их, и мы не замечаем, что эти мишурные престолы – о трех ножках, что нам стоит немного потерять равновесие, чтобы упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, кажется иногда, будто мир божий создан для одних мужчин; им открыта вселенная со всеми таинствами; для них и слава, и искусства, и познания; для них свобода и все радости жизни. Женщину от колыбели сковывают цепями приличий, опутывают ужасным «что скажет свет» – и если ее надежды на семейное счастье не сбудутся, что остается ей вне себя? Ее бедное, ограниченное воспитание не позволяет ей даже посвятить себя важным занятиям; она поневоле должна броситься в омут света или до могилы влачить бесцветное существованье!..{120}
Или вот заключительные строки прекрасной повести «Суд света», где убитая ложным мнением женщина, в сознании своей правоты, пишет к тому, кто, умев так сильно полюбить, не умел достойно оценить ее:
Суд света теперь тяготеет над нами обоими; меня, слабую женщину, он сокрушил, как ломкую тросточку: вас, о! вас, сильного мужчину, созданного бороться со светом, с роком и со страстями людей, он не только оправдает, но даже возвеличит, потому что члены этого страшного трибунала всё люди малодушные… С позорной плахи, на которую положил он голову мою, когда уже роковое железо занесено над моей невинной шеей, я еще взываю к вам последними словами уст моих: «Не бойтесь его!.. Он раб сильного и губит только слабых»…{121}
«Теофания Аббиаджио» – лучшая из повестей г-жи Ган…
Г-н Кукольник в прошлом году написал много повестей, о которых нельзя судить верно, не разделив их на три разряда: на повести, содержание которых взято из русской жизни времен Петра Великого; на повести, которых содержание заимствовано из других эпох русской жизни, и, наконец, на повести, которых содержанием служит жизнь чуждых нам стран, особенно Италии. Первые все очень интересны; вторые – посредственны; третьи – из рук вон плохи… И потому поговорим о первых. Это собственно не повести, а рассказы о старине, в основание которых г. Кукольник всегда берет какой-нибудь известный исторический анекдот. Но надо знать, что он умеет сделать из этого анекдота, с каким искусством он расскажет его, свяжет частный быт с историею, а историю с частным бытом; сколько у него тут комического, а иногда и истинно высокого, особенно в тех сценах, где является у него Петр Великий; сколько оригинальных характеров и какая яркая картина борьбы нововведений с старинною дикостию нравов! Не думайте, чтоб г. Кукольник делал из приверженцев старины карикатуры и чудища: нет, это иногда верные слуги, великого царя, люди честные и благородные; но не думайте, чтоб г. Кукольник изображал их на манер героев наших патриотических драм, то есть людьми, которые говорят нравственными сентенциями и действуют, как машины: нет, это лица действительные, исполненные комизма и в то же время трогающие своим благородством в грубых формах. Таков, например, Иван Михайлович, олонецкий прокурор…{122} Жаль, что г. Кукольник не издаст своих рассказов отдельно: их немало, а книжка вышла бы преинтересная. Вот перечень этих рассказов: «Новый год» и «Авдотья Петровна Лихончиха», «Прокурор», «Сказание о синем и зеленом сукне», «Иван Иванович» – лучшая в этом роде повесть г. Кукольника, занимающая собою первый выпуск «Сказки за сказкою». Кстати заметим, что и «Капустин», помещенный в «Утренней заре» на нынешний год, принадлежит к числу таких же рассказов г. Кукольника.
Но мы заговорились, – и потому спешим в общем перечне поименовать другие, заслуживающие большего или меньшего внимания повести, рассеянные в периодических изданиях. «Еще из записок одного молодого человека» Искандера («Отечественные записки», № 8); первый отрывок из этих записок, полных ума, чувства, оригинальности и остроумия и заинтересовавших общее внимание, был помещен в «Отечественных записках» 1840 года (№ 12); о втором можно сказать, что он еще лучше первого;{123} «Кулик», повесть г. Гребенки, в «Утренней заре» на
1841 и его же «Записки студента» в «Отечественных записках» (№ 2); «Южный берег Финляндии», повесть князя Одоевского, в «Утренней заре»; «Лев», рассказ графа Соллогуба, в «Отечественных записках» (№ 4); «Институтка», роман в письмах С. А. Закревской – новой талантливой писательницы, вышедшей на литературное поприще («Отечественные записки», № 12); «Мичман Поцелуев» В. И. Даля, во втором томе «Русской беседы». – Барон Брамбеус в последней книжке «Библиотеки для чтения» вдруг разразился, после долгого молчания, началом большой повести «Идеальная красавица, или Дева чудная». В этом начале нет никакого содержания, а есть одни рассуждения о том, о сем, а чаще ни о чем, рассуждения, местами умные, но большею частию скучные, прескучные…
Отдельно вышли уже известные публике повести графа Соллогуба, под названием «На сон грядущий» – заглавие, совершенно не соответствующее аффекту интересного сборника…
Теперь – о переводах. Можно сказать утвердительно, что у нас в настоящее время больше всего переводят Шекспира, хоть и нельзя сказать, чтоб его больше всего читали. Здесь первое место должно занимать смелое и благородное предприятие г. Кетчера – перевести прозою всего Шекспира. Г-н Кетчер напечатал пять пьес, другие последуют безостановочно. Журналы уже отдали полную справедливость важности предприятия г. Кетчера и достоинству его перевода; а возможность продолжать предприятие доказывает, что на Руси есть люди, которые читают не одни сказки и умеют понимать не одни «репертуарные» пьесы… В 7 № «Отечественных записок» помещен превосходный перевод «Двенадцатой ночи» г. Кронеберга; в «Пантеоне русского и всех европейских театров» – замечательный по своему поэтическому достоинству перевод г. Каткова «Ромео и Юлия»; в «Библиотеке для чтения» – «Сон в ивановскую ночь», как-то странно переведенный;{124} в «Репертуаре русского театра» – «Кориолан» – в четырех (?) действиях, прозою (№ 4) и «Отелло», переведенный весьма посредственно и вяло, стихами (№ 9){125}. Лучшие переводные романы тоже в журналах: «Виттория Аккоромбона» Лудвига Тика в «Отечественных записках» (№№ 3 и 4); экстракт из того же романа в «Библиотеке для чтения» (№ 5); «Оливер Твист», роман Диккенса, в «Отечественных записках» (№№ 9 и 10); «Оллен Камерон»{126} в «Библиотеке для чтения» (№№ 8, 9 и 10). Этот роман приписывается Вальтеру Скотту. Герой его – Карл II, представленный здесь совершенно наоборот тому, как представлен он в романе Вальтера Скотта «Вудсток». Впрочем, роман, чей бы он ни был, читается легко и с удовольствием. Отдельно вышедшие переводы: напечатанный в «Отечественных записках» 1840 года перевод превосходного романа Купера «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море»; прекрасный перевод с подлинника, стихами, поэмы Тегнера «Фритиоф» г. Грота: это был истинный подарок русской литературе; перевод «Клавиго», драмы Гете, г. Струговщикова.
Вот вся наша изящная и беллетрическая литература: мы не пропустили ничего сколько-нибудь примечательного и забыли только о вещах, которые не стоят того, чтоб их помнить… Самое утешительное и отрадное явление последнего времени есть, без сомнения, движение в ученой и учебной литературе России. Вот перечень всего примечательного по этой части: «Описание Финляндской войны 1808 и 1809 годов» Михайловского-Данилевского; «О России в царствование Алексея Михайловича, современное сочинение Григория Кошихина»; «Энциклопедия законоведения» профессора Неволина; «Основания уголовного судопроизводства» профессора Баршева; «Уральский хребет в физическо-географическом, геогностичесном и минералогическом отношениях» профессора Щуровского; «Китай, его жители, нравы и пр.» отца Иакинфа; «Картинная галерея», изданная А. Плюшаром; «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю» и прибавление к этому путешествию, фон Врангеля; – «О больших военных действиях» генерала Окунева; «Лекции статистики» Рославского; «История смутного времени в России в начале XVIII века» (вторая часть) Бутурлина; «Руководство к познанию средней истории» Смарагдовая «Древняя история» профессора Лоренца; первый том ученого альманаха «Юридические записки»; издаваемого профессором Редкиным.
Всех книг на русском языке, кроме периодических изданий, брошюр и отдельно отпечатанных журнальных статей, вышло в прошлом году около четырехсот; из них по части изящной литературы, оригинальных и переводных, новых и вновь изданных, выше насчитали мы всего шестнадцать; все остальное в журналах; – ученых сочинений тоже шестнадцать; итого всего тридцать две… Что же такое остальные 368 книг? – «Цын-Киу-тонг», роман г. Зотова; «Деньги», комическая поэма; «Разгулье купеческих сынков»; «Мечтатель», роман г. Воскресенского; «Веселый порошок» Васильева; «Дочь разбойника»; «Сорок лет пьяной жизни»; «Жизнь Вильяма Шекспира», сочинение г. Славина; «Козел-бунтовщик»; «Гулянье под Новинским»{127} и пр. и пр. Право, тут спросишь невольно: «Да где ж они? – давайте их!..»
Поверьте мне: судьбою нестьДаны нам тяжкие вериги.Скажите, каково прочестьВесь этот вздор, все эти книги,И всё зачем? – чтоб вам сказать,Что их не надобно читать?..{128}Однако же есть и своя утешительная сторона в прозаическом и повествовательном направлении нашей литературы: значит, оно сближается с обществом, с действительностию, хочет быть сознанием общества, его выражением. Заметьте, что теперь без хороших оригинальных повестей журнал погиб в понятии публики, которая хочет видеть себя, свою действительность в литературе и потому холоднее принимает произведения, в которых изображается чуждый ей мир. Стихотворения теперь читаются меньше, и потому общее внимание могут обращать на себя только замечательные таланты: это тоже добрый знак! Вообще, много хороших элементов, много добрых признаков; только все это как-то нерешительно, бесцветно, в каком-то хаосе. На арене литературы еще слышны старые голоса, поющие старые песни и имеющие своих слушателей: вместе с новыми голосами они образуют довольно нескладный и дикий концерт. Особенно любопытное зрелище представляет наша ученая литература: с одной стороны, некоторые журналы вопиют против просвещения и Европы, с другой – выходят книги Неволина, Баршева, Редкина, Лоренца…
Мы видим, что русская земля богата талантами: какова бы ни была наша литература, но она – огромное явление для каких-нибудь ста лет; в ней есть имена, озаренные ореолом гения, в ней есть яркие таланты; но первые не стали вровень с самими собою, а вторые часто, обнаружив много сил, мало сделали. С другой стороны, в публике, без которой никогда не может быть истинной, действительной литературы, – в публике господствует хаос мнений, пестрота вкуса, способность обольщаться возгласами спекулянтов и ничтожными явлениями. Какая всему этому причина? – Отвечать не трудно: с одной стороны, недостаток внутренних интересов в обществе, с другой – недостаток солидного, прочного, основанного на науке образования. Посмотрите, что иногда проповедуют наши журналы: если поверить им, то нужно только выучиться грамоте, чтоб все понимать и обо всем судить, особенно о поэзии. Удивительно ли после этого, что у нас всякий судит легко и важно о Шекспире, которого он не читал даже в переводах, а видел только на русской сцене, – о Байроне, Гете, Шиллере, даже Гомере. У нас как будто никто и не понимает, что без изучения глубокого и напряженного, без наукообразного развития эстетического чувства нельзя понимать поэзии; что непосредственное чувство без размышления и вникания ни к чему не ведет, кроме личных предубеждений в пользу или не в пользу того или другого поэта, того или другого поэтического произведения. Как у нас читают? Взял драму Шекспира – прочел, зевая, десяток страниц, – не нравится, и бросил; но это бы еще ничего, а худо то, что вот уже готово и мнение вроде следующего: «Эта драма плоха, следственно, о Шекспире у нас только кричат, а толку-то в нем мало». Конечно, нет ничего легче и даже приятнее, как оправдать свою ограниченность, невежество и необразованность тем, что Шекспир никуда не годится… У нас хотят читать только глазами, а не умом; чтение, требующее усилия мыслительной способности, почитается пустым, губящим золотое время занятием. У нас играют в поэзию, в литературу и науку, как в мячик. У нас думают, что и философия может быть таким же легким и приятным препровождением времени, как чтение газетного фельетона: прочел и понял все, а не понял – темно и глупо написано… Бог судья людям, рассеивающим в обществе такие невежественные понятия!.. Посмотрите, что и как у нас пишут о Гегеле люди, не имеющие о нем никакого понятия… Переведут глупую, невежественную статью какого-нибудь презираемого в Германии за свое невежество и недобросовестность мистика и решат, что Гегель чудовище! А добродушная безграмотность, видя в восхищении, что ей тут все по плечу, все понятно, восклицает: «Вон каков этот Гегель, а у нас его прославляют!..»{129} Причитавшись к таким мнениям, прислушавшись к таким толкам, всякий порядочный человек позволяет себе не знать, что пишется в наших журналах и книгах, – что делается в нашей литературе…
Вся надежда на будущее. Наука у нас видимо принимается; публичное образование развивается на твердых началах, и незаметно, невидимо подрастает новая публика, с просвещенным мнением, с образованным вкусом, с разумными требованиями. Что-то тогда будут делать многие наши «заслуженные и опытные литераторы», когда эта вдруг выросшая публика скажет им: «Подите прочь с своими смешными притязаниями; я не знаю вас!» – Да мы написали… мы издали… наши сочинения разошлись… наши книги шли бойко… – «Да где ж они? – давайте их!..»
Примечания
Впервые – «Отечественные записки», 1842, т. XX, № 1, отд. V «Критика», с. 1–52 (ц. р. 31 декабря 1841 г.; вып. в свет 2 января). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. VI, с. 5–104.
14 апреля 1842 г. Белинский писал М. С. Щепкину, что эта статья привлекла внимание министра народного просвещения С. С. Уварова, который «сказал цензорам, что хотя в ней и нет ничего противного цензуре и хотя он сам пропустил бы ее, но что тон ее не хорош (то есть: эй, вы, канальи, – пропустите вперед такую, так я вас вздую)».
Во втором по счету годовом обзоре русской литературы критик столь же критически оценивает общий уровень текущей словесности, как и в статье «Русская литература в 1840 году»; через всю работу рефреном проходит пушкинская строка: «Да где ж они? – давайте их!», которая отражает нетерпеливое ожидание подлинно художественных произведений. И так же, как и в предшествующем обзоре, большое место уделено Белинским экскурсу в историю русской словесности, который должен оправдать в глазах читателей его «надежду на будущее».
Статья Белинского заинтересованно обсуждалась современниками. 17 января 1842 г. И. Г. Кольчугин писал о ней критику: «Стыдно сказать Вам, как она мне понравилась…» («В. Г. Белинский и его корреспонденты». М., 1948, с. 288; авторство Кольчугина установлено Ю. Г. Оксманом – ЛН, т. 56, с. 237). 27 февраля того же года А. В. Кольцов в письме Белинскому порицал диалогическую форму обзора (см.: А. В. Кольцов. Сочинения. М., 1966, с. 411), а 4 марта И. И. Лажечников писал А. А. Краевскому: «Прочел я разговор А. и Б. Зачем это делается, карамзинская форма изложения? Разговор не существует там, где нет борьбы мнений; он прекратился, когда лица согласились. А в разговоре А. и Б. одно лицо только и делает, что спрашивает и тыкает» (ЛН, т. 56, с. 165). В «Былом и думах» Герцен передает следующий разговор с Белинским по поводу обзора: «Как тебе нравится моя последняя статья? – спросил он меня…» «Очень, – отвечал я, – все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» – «И в самом деле так, – сказал, помирая со смеху, Белинский, – ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!» (Герцен, т. VIII, с. 289). В современном литературоведении высказывалось предположение, что «Белинский обратился к форме диалога и по цензурным соображениям» (В. Г. Березина. Белинский и вопросы истории русской журналистики. Л., Изд-во ЛГУ, 1973, с. 130).
Сноски
1
в четвертую долю листа (лат.). – Ред.
2
См. его «Abhandlung über naive und sentimentalische Richtung». («Трактат о наивной и сентиментальной поэзии» (нем.). – Ред.)
3
Вниманию читателей! (франц.) – Ред.
4
верх ловкости (франц.). – Ред.
Комментарии
1
Критик цитирует две строфы, исключенные Пушкиным из окончательного текста третьей главы «Евгения Онегина» (впервые опубликованы в IX томе первого посмертного собрания сочинений Пушкина, СПб., 1841, с. 189–190; ср.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VI. Л., 1937, с. 583–584).
2
Там же, с. 583.
3
Двустишие Г. Р.Державина (1777).
4
Строка из «Эпистолы II» («Эпистолы о стихотворстве», 1748) А. П. Сумарокова.
5
Цитата из статьи Н. И. Надеждина «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии» («Вестник Европы», 1830, № 2, с. 140), представляющей собой переработанный отрывок из его диссертации «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830). Здесь и далее курсив в цитатах Белинского.
6
Критик неточно цитирует статью «Путешествие из Москвы в Петербург» (1836; глава «Ломоносов» была единственным отрывком из нее, увидевшим свет к 1842 г.).
7
Имеется в виду трехтомное «Собрание сочинений М. В. Ломоносова» (СПб., 1840; издание императорской Российской академии). Рецензию на него см.: наст. изд., т. 3, с. 445–447.
8
См.: «…может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить…» («Ревизор», д. 1, явл. I).
9
Выражение из письма М. В. Ломоносова И. И. Шувалову от 19 января 1761 г. Критик цитирует его по первой публикации в альманахе «Урания на 1826 год» (М., 1825, с. 54–55). См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. X. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1957, с. 545–547. (Отрывок из этого письма приводится в рецензии на I часть «Очерков жизни и избранных сочинений А. П. Сумарокова» С. Н. Глинки – наст. т., с. 460).
10
Полное собрание сочинений Сумарокова, т. IV, стр. 63.
11
См.: А. П. Сумароков. Полн. собр. соч. в стихах и прозе…, ч. IV. М., 1787, с. 63.
12
Там же, стр. 64.
13
См. выше, примеч. 9.
14
Рецензии на 1 и 2–3 части издания С. Н. Глинки см.: наст. т., с. 457–461; с. 493–498.
15
Имеются в виду прежде всего работы Н. И. Греча: «Учебная книга российской словесности» (1819–1822), «Опыт краткой истории русской литературы» (1822), «Чтения о русском языке» (ч. I–II, 1840).
16
Традиционная характеристика Сумарокова в литературе XVIII – начала XIX в. См.: «Театра русского отец, // Изобличитель злых пороков, // Расин полночный, Сумароков!» (В. И. Майков. Ода о вкусе Александру Петровичу Сумарокову). Ср.: «Меж тем, как то признал французский сам Парнас, // Что Сумарокова дойдет в потомство глас; // Он наш Софокл, отец театра он у нас…» (А. А. Палицы н. Послание к Привете, или Воспоминание о некоторых русских писателях моего времени. Харьков, 1807, с. 6).
17
Мельпомена – муза трагедии в греческой мифологии.
18
Рецензию на новое издание «Душеньки» см.: наст. т., с. 410–414.
19
Цитата из сатиры А. И. Писарева «Певец на биваках у подошвы Парнаса» (1825), впервые опубликованной лишь в 1859 г. в «Библиографических записках» (т. II, № 20). Приведенные строки относятся к Н. А. Полевому.
20
Критик цитирует былину «Калин-царь».
21
В журнальном тексте было: фантастическом. Исправлено по КСсБ.
22
Тезис об отсутствии «общечеловеческого содержания» в подвигах богатырей из русских народных песен развит критиком в «Статьях о русской народной поэзии» (см.: наст. т., с. 193, 227–228) и соответствует его представлению об исторической ограниченности фольклора вообще (см. преамбулу примечаний к указанным «Статьям…»).
23
Это высказывание – полемическое преувеличение: в своих последних стихотворениях – например, в «Полигимнии» (1816) – Державин выражал надежду на то, что он обретет бессмертие именно как поэт.
24
В журнальном тексте было: подземных.
25
Перифраза строк из стихотворения «Осень во время осады Очакова» (1788):
. . . . . .Идет седая чародейка,Косматым машет рукавом;И снег, и мраз, и иней сыплет,И воды претворяет в льды;Пустыни сетуют и долы,Голодны волки воют в них;. . . . . .Ушел олень на тундры мшисты,И в логовище лег медведь…Ниже приводится отрывок из этого стихотворения.









