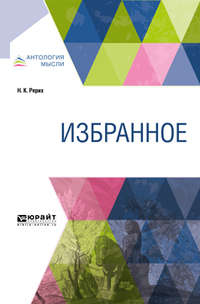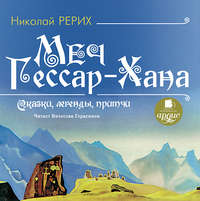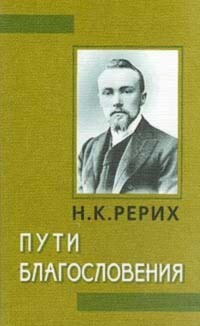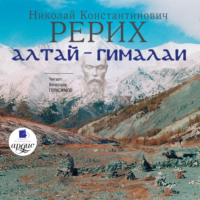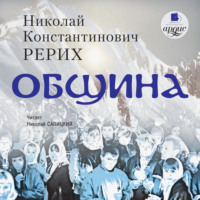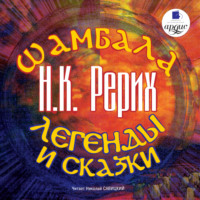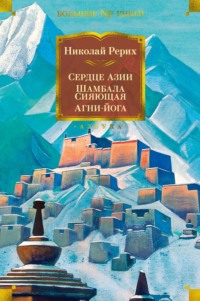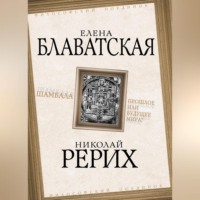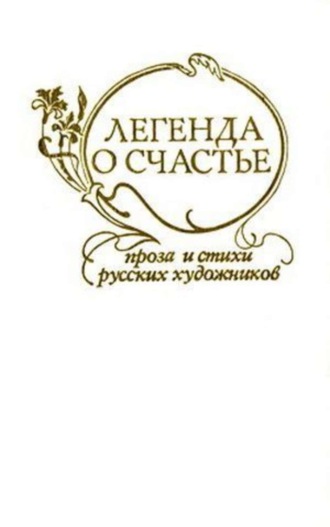 полная версия
полная версияЛегенда о счастье. Стихи и проза русских художников
– Анемподист Маркеловский ходил в Рим поклониться мощам апостола Петра, сказывал: собор поистине достоин удивления, – добавил Лука.
– А был еще в Италии художник Бенвенуто Челлини. Ну, я тебе скажу, это был такой головорез, такой сорви-голова, каких свет мало родил! – и Копысов от удивления и удовольствия развел только руками, – а мастер был, каких поискать.
– Видно, нашего Сеньку голой-то рукой не хватай, – съехидничал дьякон. – Коли так, берись-ка ты написать картину Второго пришествия для церковной паперти. Отец Михаил давно ищет живописца, да никак не найдет подходящего: дорого просят, а ты сделаешь по сходной цене. Берись-ка, благословясь, Семен Иваныч.
– А что ты думаешь!.. И возьмусь. Была не была богородская трава – куда ни шло!
– Взять-то ты возьмешься, а сделаешь ли дело? – сказал со вздохом дьякон.
– Да так еще напишу – любо-дорого! У меня есть старинная контурная копия на пергаменте со Страшного суда самого Рублева; с того самого Страшного суда, который он писал на стене Успенского собора, что у Троицы-Сергия. Досталась она мне от покойника Тараски, а ему от монаха троицкого Алимпия, тоже иконописца. Такой счеканю Страшный суд – и ты ахнешь, старый хрен: молодец, скажешь, Сенька!
– А водку перестанешь пить? – спросил дьякон.
– Молчи! Водка – водкой, а дело – делом, – мрачно ответил художник.
– Тебе из казны выдадут деньги на краски да на масло для иконы, а ты их в кабак да в кабак. И на поверку выйдет: картина-то встанет дороже дорогого.
– Погоди, я тебя за эти слова, дьякон, на Страшном суде в самое пекло запрячу, с берестяной твоей табакеркой: не нюхай, не пей из чертовой перечницы – туда тебя, старого хрена!
Дьякон хотя и был по старости за штатом и давно не совершал церковных служб, но, услыша такую мерзость, погрозил палкой Копысову, который разразился судорожным смехом, какой присущ только горьким пьяницам.
– И тебя, Егор, – продолжал он, также хохоча, – посажу туда же: как ты несешь бревно на плечах из Сверчковского лесу, черту на жаровню грешника поджаривать, а грешник-то этот ты же сам. Не воруй чужой лес, поделом тебе, соснова-елова!
Егор Николаич в ответ показал Копысову свой кулак, но потом спрятал руку за пазуху и, смотря куда-то в сторону, проговорил:
– Не балуй, Сенька, не балуй, а то попадет тебе, пожалуй.
– А себя-то и забыл, Семен Иваныч, – добавил Лука.
– И себя туда же с косушкой водки, – поделом вору и мука! Не пей, не губи жизнь – дар Божий. Так мне, так мне и надо!
Копысов не унимался, и его хриплый смех постепенно переходил в истерические всхлипывания. Он стоял на площадке перед компанией и, сильно жестикулируя, то взмахивал вверх руками, то, наклонившись всем корпусом, простирал их к земле, как бы перед ним находилась преисподняя, куда он по своей воле сажал своих приятелей и недругов. На самом же деле под его ногами были могилы давно умерших людей, и те, вошедшие в землю каменные плиты с остатками стертых ногами надписей и изображением адамовой головы,[50] были не что другое, как надгробные памятники предков, ушедших в темную вечность. И те начертания имен, что прежде ясно были видимы над их прахом, быть может, стерли ноги их внуков и правнуков, когда они набожной стезей входили толпами в церковь. Итак, несчастный над тлеющими костями человеческими изливал свою горечь и желчь, порожденные чувством обиженного, забитого судьбой человека…
– Всех, всех туда запрячу за их прегрешения! – кричал он. – И целовальника Митрошку за то, что народ крещеный опаивает, дерет с живого и мертвого – туда его! Пусть пьет горячий спирт и закусывает утробой залившихся в его кабаке грешников. И скупого тысячника, который жалеет полтины за образ Божий отдать труженику. Туда его! Не скупись на иконы. Пусть считает там голыми руками раскаленные добела медные пятаки и алтыны. И Иванову свекровку в Волме – туда ее! Как она в великую пятницу отказалась дать взаймы моей жене десяток яиц к Пасхе: «что-де своих кур не держишь», сказала. А чем их станешь кормить, когда самим есть нечего. Не для себя она просила: для малых ребят своих, хотела их порадовать в Христов день крашеным яичком. Мошенника Кузьку с Кунгура – туда его! Как за иконы Николы-чудотворца и Богородицы к свадьбе сына, что я писал ему, обещался осенью отдать овчинами, а пришел за обещанным – приди-де завтра, – так все и водил за нос всю зиму. Жена у меня целую зиму ходила без теплой одежи; старую-то шубу поправить бы Кузькиными овчинами – таскала бы, не мерзла на холоду… У меня тоже дети, надо поить, кормить, сам есть хочу, не с голоду же помирать, тоже человек, не камень – да!
И с последними словами Копысов зарыдал, ударяя себя в грудь. Далее продолжать он был не в силах, сел на нижнюю ступеньку лестницы и заплакал, беспомощно тряся и мотая головой. Что-то необыкновенно трогательное было в этом блуждающем тупом взгляде воспаленных от пьянства глаз, какими он смотрел то на одного, то на другого, подобно собаке, которую только что наказали. Как у всех горьких пьяниц, в нем одно состояние духа быстро сменялось другим; то он был буен и ругался на чем свет стоит; то тих и смирен, как наблудившая кошка. Последнее случалось с ним каждый раз вслед за фундаментальной выпивкой, после чего он чувствовал себя пред всеми виноватым и старался хоть смирением загладить вину. При виде плачущего Копысова во всех пробудилась к нему жалость; даже тяжеловатый на подъем чувств. Мальгинов пожалел и старался утешить по-своему.
– Перестань, Сенька! Есть о чем! Э, полно, брось, не надо! – говорил он, отмахиваясь рукой, как бы отгоняя муху.
Отец-дьякон тоже принял участие в Семене Иваныче.
– Эк тебя разобрало, – говорил он, – к чему распускать слюни? Хоть бы было о чем. Как малый ребенок. Перестань! А лучше, вот, благословясь, сходи завтра к отцу Михаилу и скажи, что так и так: беру на себя труд написать изображение Страшного суда на церковной паперти; вон на той стене, – и дьякон, медленно повернув свой довольно тучный корпус, указал двумя перстами на левую стену паперти. На противоположной же стене висела старинная икона распятия. – А то между заутреней и обедней народ без толку шляется по селу да считает на колокольне галок и лба еще не перекрестивши. Когда же будет висеть изображение Страшного суда в паперти, подойдут, посмотрят да увидят, какое наказание ждет грешника, авось в другой раз и побоятся пожертвовать черту на ладан.
– Взглянет, да с испугу другая старуха-дура неравно петухом запоет, – отшучивался Сенька.
– Да ты полно молоть пустое: тебе толком говорят.
– Толком-то баба меряла помелом: полтора с половиной, а у черта с гривной ку-ку-реку!
Всех рассмешила Сенькина шутка сквозь слезы.
– Ну-ка, ты, полтора с половиной помела, пропой-ка еще петуха, – поощряли его. Сенька был рад и повторил петуха с новой варияцией, передававшей поперхнувшегося во время пенья. Петь петухом была его специальность; мастер он был и на другие штуки; вся компания принимала их за чистую монету, не видя, как в то же время подернулось судорогой лицо и руки Копысова – явный признак болезни пьяниц.
– Не шутя, Сенька: пиши Страшный суд.
– И напишу, ей-Богу, напишу. Э, была не была богородская трава, – сказавши обыкновенную свою поговорку, Копысов снял картуз и ударил им о землю. – Завтра же иду к отцу Михаилу, и будь что будет! А жене на башмаки и ребятишкам на калачи хватит. – И Копысов от удовольствия в ожидании таких радужных семейных картин даже присвистнул и понес уж такую невообразимую чушь, что все смеялись, что называется, до упаду.
– Так смотри же, Сенька, – говорил дьякон, – завтра же утром встань раненько, причешись, умойся, а не ходи этакой растрепой, как теперь, – и к отцу Михаилу.
– Завтра утром, вот как Бог свят, начну это дело, – решительно сказал Копысов и в подтверждение своих слов даже перекрестился.
Вечерняя майская заря тихо потухала на севере. Вот, в полумраке наступающей ночи, исчез сверкающий лес, как бы потонув в темном озере. Лукина овина как не стало; вот и Егоров терем скрылся – не разглядеть, а наши приятели все еще сидят на паперти, разговаривая о том, о сем, и жаль им покинуть нагретую ступеньку лестницы. Но сладкие позевки, предвестники сна, слышатся чаще, чаще среди них и по мере их учащения разговор делается ленивее и настает, наконец, момент, когда никому первому не хочется сказать слово. Молчание длилось довольно долго, как вдруг Егор Николаич издал такой громкий позевок, что коростель, надрывавшийся где-то далеко в лугах, неожиданно замолк, должно быть, смущенный странным звуком, нарушившим тишину наступающей ночи. Позевок Егора послужил сигналом ко сну: все встали и разошлись по домам. Вот, слышно, заскрипела калитка на пяте у Егорова терема, звякнула щеколда у дьяконовых ворот, с визгом задвинулся засов у Лукиных ворот – и все стихло. Остался на паперти один только Омеля, но и тот, почесываясь и зевая, вскоре покинул насиженное место и ушел в сторожку, щелкнув за собой несколько раз замком, запирая дверь. Этот звук еще некоторое время держался под пустыми и темными сводами церкви, но наступившая за ним тишина так была безмолвна, так глуха, что все казалось навеки погрузившимся в непробудный сон. Медленно подымались туманы на полях и лугах и так же медленно плыли неизвестно куда, как грезы спящего ребенка. Бездвижно стояли леса, деревья, дремали тихие воды, цветы в поле не качали головками; даже сиротинка былинка при дороге стояла, как заколдованная. Казалось, вся природа была частью чьего-то сладкого поэтического сновидения, так беззвучна и бездвижна была она!.. И вдруг, среди этой немой тишины голос времени снова, казалось, все вызвал к бытию. Омеля ударил полночь. Первый звук часового колокола, слабый и дрожащий, как стон или вздох пробужденного, разнесся по окрестности и долго стоял эхом в воздухе. Второй был громче, но прозвучал как бы нехотя, в бреду. Лениво, удар за ударом, лились звуки и будили окрестность печальным плачущим эхом. Отсчитавши двенадцать, Омеля как будто колебался: дать еще раз или нет; помедлив немного, он решительно и громче всех ударил «тринадцать», как бы сказавши себе: «э, куда ни шло!» Егор Николаич, засыпавший было, стал невольно считать бой часов и, когда насчитал тринадцать, пробормотал:
– Вот, мошенник, нечистого тешит: его дюжину наколотил.
А тринадцатый удар часового колокола долго выл по окрестности, долго бродил, нигде не находя приюта, и замер, наконец, где-то далеко в Сверчковском темном лесу в самых его дебрях, куда днем солнце не заглядывало и дневали совы и летучие мыши, где даже неоднократно видали самого лешего; у него за пазухой тринадцатый удар колокола и нашел себе приют.
* * *Копысов был крестьянин из ближнего села Волмы, где испокон веку заречная часть занималась производством и раскрашиванием дуг, прялок, вальков, сундуков и т. п. При этом нужно заметить, что волменские дуги славились особенно яркой раскраской по всему околотку. Что всего ярче горит в ярмарку в любом селе? – Волменские дуги и сундуки. Откуда это такая славная дуга у богатого мужика? – Из Волмы – откуда же иначе? Семен Иваныч в детстве помогал отцу в дедовском ремесле. Кудрявый Сенька тер краски, протирал вареным маслом дуги, а иногда и красил их. В нем рано проявилось артистическое самолюбие. Ему завидно было, когда, бегая по заречной слободе, он видел выставленные на солнце дуги, гораздо красивее тех, какие делал его тятька. Он старался не смотреть на них или же, глядя искоса, пытался уверить себя в противном, но когда подобные попытки не удавались и дуги все-таки превосходили качеством отцовские – швырял украдкой в них камушками. Оскорбляло его и то, что мужик, живший напротив и как нарочно выставлявший дуги на солнцепеке чуть не под самым Сенькиным носом, год от году богател, отец же, наоборот, беднел. Хотя немало способствовала последнему обстоятельству слабость отца, которую он передал и сыну: любил отец Сеньки закладывать – попросту: пил горькую. Так же рано в Сеньке проснулась и склонность художника воспроизводить в образах представления фантазии и памяти, за что, к сожалению, нередко бывал нещадно бит отцом по затылку и таскиваем за волосы. Помогая отцу в расписывании дуг, Сенька в то же время малевал на заборах углем невообразимые рожи, всадников на конях, которым служили ногами просто четыре прямые линии; строил при помощи мела и угля целые города вдоль бревен своей избы. Иногда брал сюжетами для произведений на заборах даже жанровые сцены вроде того, как Петруха бьет Петрушиху, как дядя Степан режет теленка, как тятька едет в город с дугами, как тятька пьет водку «из горлышка» бутылки. Конечно, во всех подобных произведениях голова большею частию изображалась в виде круга с тремя линиями внутри и кудрями около, долженствовавшими изображать части лица и волосы; туловище делалось наподобие мешка, с приставленными по углам четырьмя палочками с пятью маленькими черточками на концах, изображающими руки и ноги с пятью пальцами. Часто, когда тятька пил или торговля дугами шла плохо и когда поэтому мамка принуждена была занимать у соседей то муки, то чашку солоду, таская все это под фартуком, чтобы люди не видали, Сенька скорбел душою и втайне грозился отомстить соседям за те унижения, каким подвергалась мать, ходя из одного двора в другой, как нищая, прося и нередко получая отказы в просимом. «Я уж вам! дайте только вырасти большому», – грозился он, а с годами эта угроза сформировалась и перешла в желание сделаться живописцем, а не каким-нибудь маляром, красильщиком дуг. Когда отец Сеньки умер, сын не замедлил осуществить давнишнюю мечту: двенадцати лет он поступил в подмастерья к иконописцу, приехавшему в это время в село писать иконостас. Сеньке от своего учителя приходилось ни тепло, ни холодно, хотя довольно жарко от частых потасовок и холодно до «цыганского пота», когда Сенька со всех ног в легоньком шугайчике в тридцатиградусный мороз стремглав летел в кабак за косушкой водки для хозяина. Проку для него от такого ученья было не много. Единственная обязанность Сеньки таскать в кухню воду, дрова и быть на побегушках по хозяйству мало совершенствовала его таланты. Даже тереть краски, не говоря уже о фонах и припорохах для икон, ему кой-когда удавалось; а упражняться в рисовании на заборах и дверях, как прежде, для своего удовольствия и в помине не было. Зато, достав где-то карандаш и пользуясь всякими обрывками бумаги, он по вечерам при свете луны или сального краденого огарка, когда все уже спали, чертил разных святых, пряча свои произведения в такое укромное место за печкой, что никому и в голову не приходило заподозрить Сеньку в занятиях рисованием вне обязанностей подмастерья. Сенька имел тогда самый жалкий вид: лицо грязное и в красках, волосы торчали вихрами от частого их пребывания в хозяйских руках; взгляд тупой, растерянный, всегда голодный. Всегда оборванный и мрачный, Сенька скорее походил на нищего. Одежда чуть держится на худых плечах, сапоги «на босую ногу», всегда «просят есть», оскалив зубы, и из них, как поросята из закуты, выглядывают все пять пальцев. Бывало, когда он урвет минутку и прибежит к матери, та не наплачется, глядя на свое детище: и худ-то он стал, и глуп. Кормит она его ватрушками с кашей или пирогами с горохом, а сама, подпершись рукой, глядит на него сквозь слезы, вздыхаючи и охая.
– Сенюшка, ты мой голубчик! Что из тебя сделали, окаянные! – причитала баба, глядючи на свае кровное дитятко.
А он, как прибежит молча, ест молча и убежит молча. Промаявшись по разным селам года три с Тараской – под таким именем слыл его хозяин, – Сенька научился кой-что работать единственно только по своей настойчивости; а то так бы и сидеть ему краскотером и грунтовалыциком – примеры этому он видел на других подмастерьях, поступивших к Тараске раньше его и не умевших, что называется, мазнуть кистью. А как увидел Сенька, что он напишет Богородицу и святого не хуже самого Тараски, смекнул он: и сам парень не промах, может иметь свою мастерскую – благо от отца остались краски и кисти. Долго он держал эту заветную мысль сделаться иконописцем самостоятельно и придумывал способ, как бы отплатить Тараске за все его благодеяния: за пощечины, вихры и потасовки. Вот Сенька назначил и день, когда уходить. Это было под конец лета, когда на полях все работы окончены и когда много заказывают образов для осенних свадеб. С утра все сели обычным порядком за мольберты. Общее молчание, жужжат запоздалые мухи; сизым флером висит в воздухе чад от свежеиспеченного хлеба; пахнет вареным маслом и скипидаром; за заборкой слышно, как ревет в люльке Тараскин ребенок. Хозяин с похмелья и сердит – того и надо Сеньке для осуществления коварного замысла. Он начал.
– Забыл я сказать, Тарас Тихоныч, отец Степан заказывал тебе прийти сегодня утром, – соврал Сенька.
– Что ж ты, свинтус, раньше-то молчал? Скоро обед, а ты до сих пор ни слова, балбес!
Тараска начал собираться: надел крахмальную манишку, сильно засиженную мухами, жилет, сюртук, привесил медную цепочку, к которой вместо карманных часов был прикреплен просверленный пятак, и собрался совсем уже было уходить, когда Сенька доложил:
– Тарас Тихоныч! сурику нет, надо натереть.
– Что ж ты мне говоришь? Взял бы да и натер.
– Сам три, – огрызнулся Сенька.
– Ах ты, антихрист этакий! Да что это с тобой? Мне краски тереть?! Я, смотри, так тебе натру бока – долго чесаться будешь… Три, я тебе говорю! Не натрешь – убирайся из моей мастерской к черту!
Такая угроза была самым действительным средством, чтобы заставить повиноваться подмастерье, так как остаться без мастерской, одному, значило почти нищенствовать. Сенька притворился побежденным и в отсутствие Тараски истер весь сурик, имевшийся налицо, и издержал все вареное масло. Слил сурик в горшок и поставил в мастерской на окно, прикрыв содержимое бумажкой. Во все это время у Сеньки с лица не сходила самая ядовитая улыбка. Затем перенес тайком кошель с хлебом и пожитками на улицу, поставил возле ворот за дровами, а сам сел как ни в чем не бывало опять за свою работу. Слышит, идет Тараска пьян: ворчит и сильно стучит ногами о ступеньки лестницы; входит, и прямо к Сеньке.
– Что ты вздумал меня морочить, а? Тебя отец Степан и в глаза не видывал! – закричал Тараска, приправляя свои слова непозволительной бранью; всевозможная брань была стихия Тараски; как рыбе в воде или птице в воздухе – так и ему всякое сквернословие. – Что ты молчишь, растакой-сякой! – и бац Сеньку по затылку! Тараска был детина дородный, и знал Сенька по частому опыту, какого весу был хозяйский кулак, а на этот раз вес его увеличился вдвое, так что у Сеньки выпала палитра из рук и ударился он головою об икону, которую писал. Увидел подмастерье, что пришло время расплаты с хозяином. Первым его движением был скачок к окну, где стоял горшок с суриком, которым он и пустил прямо в Тараску, а сам в окно вместе с разбитой рамой, из второго этажа. Тараска, пораженный всем происшедшим и глядя на свою новую казинетовую пару,[51] всю в сурике, некоторое время стоял, как оглушенный громом, пока не собрался с силами и не пустился в погоню за беглецом, пятки которого уже далеко-далеко мелькали по селу. Видят селяне, несется во весь дух по улице Сенька с котомкой за плечами, за ним бежит Тараска, а за Тараской вся его мастерская от мала до велика. Тараска красен от сурика, как вареный рак, и кричит: «держи его, держи его!..» И не разберут селяне, в чем тут дело: в крови ли Тараска или горит ярким пламенем? Сеньку молодые ноги уносили, как козленка, Тараска же был тучен и тяжел на ногу да притом удушлив. Где огород – Сенька в один миг за ним, а Тараска лезет через него, как медвежонок; и когда Сенька был далеко уже в поле, Тараска устал так, что еле двигал ногами и только ругался всеми бранями, какие может выдумать человечество на потеху нечистому.
Около полсотни верст прошел Сенька, прежде чем прийти в родное село. Первое, что он сделал по приходе: привел отцовский материал в порядок и, написав икону, поставил ее на окно лицом на улицу. Ходил Сенька по селу барином, руки в карман и знать никого не хочет! «Того ли, мол, хотели?!» – думает про себя, глядя, как однодеревенцы выставляют дуги сушить на солнцепеке. Посматривает на них свысока да еле кивает головой на их приветствия; покуривает себе Сенька папироску да сплевывает на сторону… «Видали, мол, вас много таких-то…» – говорят все его движения.
– Наша почтение, Семен Иваныч! Давно ли прибыл? – кричат ему соседи.
– Недавно. Как дела твои, Карп?
– Да ничего, помаленьку… Слышал, иконы пописываешь?
– А ты думал как?…
– Доброе дело, доброе дело! Все вот собираюсь купить себе Илью Пророка, да никак не соберусь в город. Напиши-ка ты мне небольшого.
– Что ж, можно. Приходи завтра, как-нибудь столкуемся, – говорит и идет дальше.
В праздник едут прихожане в церковь мимо Сенькиной избы, едет мужик из города, куда он возил рожь на продажу, – видят иконы на окне – зайдут, справятся: нельзя ли купить или заказать? Скоро разошлась молва по околотку о том, что в Волме за рекой пишут иконы и занимается этим делом Иванов сын. Стали заказывать – берет недорого: двугривенный, четвертак на клею и сорок да полтинник на масле. Приедет мужик к обедне и зайдет к Семену Иванычу заказанную икону выкупить. Возьмет заказчик икону за два противоположных угла, держит поодаль от себя: как бы ненароком не задеть – и, поворачивая перед собой так и этак, скажет:
– А важно малюешь, прах тебя возьми.
Посмотрит заказчик и на оборотную сторону доски; постучит по ней согнутым указательным пальцем и по звуку уже знает: дерево сухое – не поведет да и соснарвена[52] как следует, не то, чтобы только «для видка», как в городе, – не жаль за такую работу и полтины. Загнет он полу у зипуна и вынет из глубокого кармана кисет с деньгами, где заодно лежит и трубка с табаком, отсчитает на жесткой ладони стопку медяков, трехкопеечников старого чекана, а то и николаевских десятикопеечников на ассигнации с добрую лепешку, что бабы пекут из малины на капустных листьях, отсчитает и вывалит на руку Семена Иваныча чистоганом четвертак. Но не отказывался он брать за работу и провизией: льном, яйцами, мукой и т. д. Дела шли хорошо, Семен Иваныч торжествовал. Купил самовар и попивал по вечерам чаек с баранками. Можно сказать: это была самая счастливая пора в жизни нашего героя – его апогей; ни до, ни после ему уж не удавалось испытывать того покоя, каким он наслаждался в своей Волме в дни юности. Самая счастливая пора в жизни каждого человека бывает только однажды. Иногда счастие только кажется таковым, заслоненное отзвуками забот и горя. Оно не так прочно, как несчастие: первое нужно удерживать, чтобы оно не ушло, второе идет всегда непрошеное и нежданное, и часто борьба с ним непосильна. Мечты Семена Иваныча не имели тогда пределов ни в настоящем, ни в будущем, пока они хотя немного осуществлялись. Первый год ему привалило работы, не успевал исполнять заказы; то надо для свадьбы икону, то в новую избу к богатому мужику; были заказы и в местную церковь. Но когда прошло, так сказать, горячее время, заказы на иконы стали перепадать реже, полтинник, два в неделю – заработок плохой. Вздумал он искать работу на стороне в соседнем селе, но там дела пошли еще хуже: нужно было платить за квартиру, и за хлеб, и за лошадь. Промаявшись по селам с год, Семен Иваныч приехал домой ни с чем. Глядит, а через дорогу на другой стороне улицы, как раз напротив, ненавистный Михаила выстроил новую избу. Еще более разобрала его злость, когда раз, проходя мимо той избы, увидел он, что Михайло стал расписывать дуги лучше прежнего: на рогах у дуги стали появляться написанные яркими красками львы, драконы, грифы. «Как он делает их, злодей?! – возмущался Семен Иваныч. – Возьмет, вырежет их ножом да и закрасит краской, какую Бог на душу положит». Мало того, видит он, что Михайло не остановился на одних дугах, а начал расписывать бабьи вальки, какими они белье выколачивают на реке; в этом уж Семен Иваныч заподозрил прямое подражание себе, просто воровство. Валек – это немного изогнутая доска, с короткой рукоятью наподобие небольшой лопатки, довольно толстая и обыкновенно из березы для тяжести. На лицевой верхней стороне валька Михайло по разным фонам начал писать на одной половине какой-нибудь замысловатый цветок – красный, синий или зеленый, а на другой, за поперечной чертой – коня. Семену Иванычу стало досадно и смешно; при первом же удобном случае он не замедлил это высказать.
– Что, Михайло, и ты нынче занялся живописью? Только не твоих это, брат, рук дело: тебе подходяща только черная работа, и не живопись; это уж оставь для рук почище твоих.
Михайло недоумевал.
– Да вот, – и Семен Иваныч взял один из вальков, выставленных на солнце, – конь-то какой – а?! Нешто такие бывают: желтый, а там зеленый, тут красный суриком – ха-ха-ха! Ай да конь! Где это ты таких видывал, любопытно было бы знать: не на семеновской ли ярмарке в городе или, может быть, у арапов или негров – а?
Михайло взял валек за рукоятку, повертел его так и сяк, посмотрел на коня – впрямь желтый – таких не бывает; но никогда он не задавался этим вопросом: бывают ли лошади желтые, зеленые и т. д.