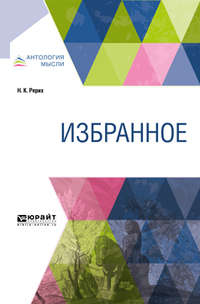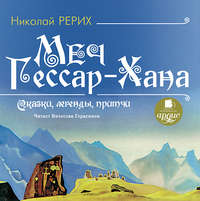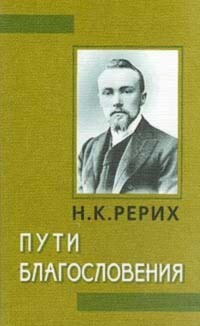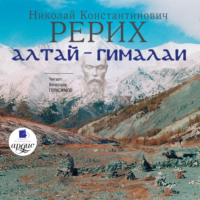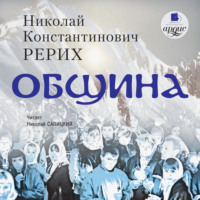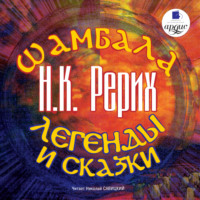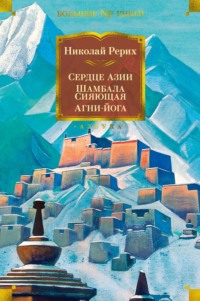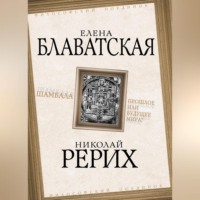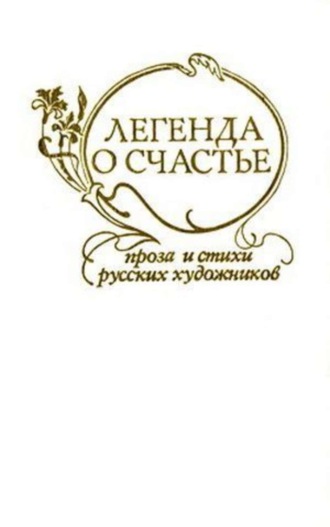 полная версия
полная версияЛегенда о счастье. Стихи и проза русских художников
Мы долго шли узкими улицами. Навстречу нам попался какой-то старый человек, одетый в отрепья. В одной руке его был фонарь, и он хрипло пел: «Но-о-о… но-о-о…» В другой руке у него была секира.
– Это ночной сторож, он кричит – какой наступил час.
Какой стариной повеяло на меня!
Улица поднималась в гору. За поворотом я увидел у большой стены деревянное здание, крашеное, похожее на сарай. У входа ярко горели фонари, стояло много полиции с револьверами в кобурах.
Взяв билеты, мы вошли внутрь.
Крытый двор. С потолка свисали огромные длинные фонари восьмиугольной формы. Они были покрыты шелковой материей, оранжевой, красной, желтой. За полуоткрытой стеной синела ночь, светились окна домиков с балконами.
Внизу на эстраде сидели гитаристы с большими гитарами. У стен тянулись стойки; за ними толпился всякий люд – матросы, техники с кораблей; множество женщин.
Пестрота… Шум… У женщин были высокие гребни и розы в волосах… Глубоко вырезанные платья. На плечах – длинные китайские платки в узорах золота, с большой бахромой. Цветные корсажи всех цветов, шитые золотом; широкие юбки, в оборках из кружев. Некоторые были закутаны в кружевные косынки. Одна, в широкополой мужской шляпе, подняв над головой руки и щелкая кастаньетами, танцевала и пела на столе.
– Мариска… – сказал мне Запатэр.
Мы прошли в угол и сели за столик. Я открыл свой ящик с красками, чтобы набросать этот невиданный ресторан. В нем были жгучие краски. Испания… «Вот какой кабак нужен в «Кармен»…»
На середину двора вышел молодой испанец. В руках у него был высокий жезл, сверху – плоский кружок, с которого спускались вниз ленты ярких цветов. Испанец был одет в пунцовый бархат. Короткая куртка, расшитая плотным золотым узором, белая крахмальная рубашка и черный тонкий галстук, уходивший в широкий красный пояс. Сбоку рейтуз в обтяжку шли золотые пуговицы. Белые чулки и черные туфли. Из широкой шляпы видна была сзади косичка, спрятанная в зеленую сетку.
«Это тореадор…» – подумал я.
Встав среди двора, он крикнул. Все женщины и мужчины подошли к нему. Ударили гитары, и я увидел особенный танец, похожий на те, которые танцуют сейчас здесь, в Париже, вроде румбы. Женщины обмахивались веерами.
Недалеко от нас сидела компания. Один был одет в европейский белый костюм. От другого стола подошла женщина и что-то стала выкрикивать, потрясая кулаком перед его лицом. Потом схватила стакан и плеснула ему в лицо вином. Он вскочил и схватил ее за волосы. Ее спутники бросились ей на выручку, и началась драка. Летели стаканы, бутылки…
Вбежала полиция; не церемонясь, хватала всех Дерущихся за шиворот – и женщин и мужчин – и выталкивала из ресторана.
Танцы продолжались…
Началась другая драка, с противоположной стороны… Дрались матросы.
– Пойдем, пора, – сказал Запатэр, торопливо расплачиваясь.
Действительно, когда я собирал краски, мимо пролетела бутылка. Я хотел заплатить, но Запатэр мне не позволил.
У входа, на улице, – толпа, лунная ночь, звезды. Вдруг сзади мою шею охватили женские руки. Я обернулся: красивое лицо с круглым ртом что-то говорило мне, смотря пьяными глазами, – женщина звала меня к себе. Она сняла с моей головы шляпу и надела на себя. Леонард за руку оттащил меня… Какой-то человек в толпе остановил меня и долго и многозначительно жал мне руку… «Не русский ли, – подумал я. – Похоже».
IIIКогда мы возвращались из загородного ресторана домой, была тихая, глубокая ночь. Пахло лимоном и ванилью. Луна. Мягкие тени от садов синели по дороге. У портика храма, на каменных плитах и на мостовой спали вповалку люди. Их было так много, что мы вынуждены были переступать через спящих. Одна женщина с детьми протянула ко мне руку, прося подаяния… Я увидел впереди, как один лежащий вскочил и схватил проходившего мимо молодого испанца за плащ. В руках прохожего сверкнул нож… Нищий выпустил плащ и долго стоял с опущенной головой, исподлобья глядя вслед уходящему и нам.
Мы вышли на большую широкую улицу города. На балконе одного дома светилось окно, слышался звук гитары и пение. Вдруг слышу знакомое – цыганский романс, что пела вся Москва:
Милая, ты услышь меня,Под окном стоюЯ с гитарою…Я остановился. Пел хороший голос. Среди ночи как-то вдруг я почувствовал берега отчизны… И, идя по улице, запел этот пустяковый романс по-русски. Новые друзья мои подпевали мне по-испански. Запатэр удивлялся, откуда я его знаю.
Сзади послышался шум и смех. С нами поравнялась коляска. Сидящие в ней окликнули нас. Возница остановил лошадей. Из коляски вышла нарядная женщина. Она, смеясь, подошла к нам и обнаженной до плеч рукой подала мне мою шляпу, взятую другой красавицей у меня при выходе из загородного ресторана. Сидящие в коляске что-то кричали и смеялись.
Когда я надел свою шляпу, женщина подхватила меня и Леонарда под руки и повлекла к коляске.
– Мы едем к ним, – объяснил мне Леонард.
Двое незнакомых кавалеров очень любезно пожали нам руки и крикнули: «Оэ!..» Лошади чуть не вскачь помчались по узкой улице…
Мы остановились у ворот каменной стены, за которой темнели деревья. Внутри, в глубине сада, светились фонари. Журчала вода каменного большого фонтана в скульптурных украшениях.
Под фонарями стояли столы, уставленные бутылками и фруктами в хрустале. За ними пировали незнакомые мужчины и женщины. Нас весело встретили и налили в бокалы шампанского. Служили лакеи. Тут же за столом сидел толстый человек, весь в черном и в широкополой черной шляпе. На животе у него колыхалась большая гитара. Гитарист ударил по струнам и запел. Напев знакомый: ведь тот же романс пел всегда в Москве мой друг Костя Шиловский.
Пели все. Женщины танцевали под пение, стучали каблуками – они то перегибались назад и ногой подбрасывали юбки кверху, то, подбоченившись одной рукой, гордо и серьезно шли одна за другой. В этом была Испания – я нигде не видел такого танца. Но почему, несмотря на другую природу, обстановку, весь иной лик, я чувствовал себя, будто я в Москве?… В чем дело?
И вдруг понял, в чем похожи испанцы на нас: в радушии и разгуле. Казалось, что и здесь какой-то вечный праздник, точно никто ничего не делает, как и у нас…
Женщины и мужчины пели и плясали. Когда я запел с ними тот же романс по-русски, все с удивлением посмотрели на меня. Леонард объяснил им, что я – русский.
– Руссо? Руссо?… – удивились они. – Как? А нам сказали, что Инезилья взяла шляпу у матадора.
– Москва, Петербург? – спросил меня незнакомый красавец высокого роста, с тонким бледным лицом, одетый в шелковый черный плащ. На фоне колючих кактусов, освещенный кованным из железа фонарем, он был очень красив…
«Вот – Дон-Жуан, – подумал я. – Вот кого бы написать…» Я сказал о своем впечатлении Леонарду.
– Верно, – сказал он, – его и зовут Дон-Жуан…
* * *Когда я приехал к себе в гостиницу, в открытом окне светлела заря…
Утром меня разбудили Ампара и Леонора. Они вошли, не смущаясь, что я еще в постели. «Как все просто», – подумал я.
Когда я одевался за занавеской, вошел какой-то господин. Он объяснил мне, что он журналист, и сказал, что придет ко мне с другими журналистами обедать. Уходя, он вынул из кармана пачку сигар и, улыбаясь, оставил их мне в подарок. Сигары были отличные.
* * *Я весь день писал Ампару и Леонору. К обеду в гостиницу пришли Запатэр, Леонард и еще шесть человек незнакомых. Все приветствовали меня, а выпив, уговаривали остаться жить у них в Валенсии. Снова вспомнилась Россия.
После обеда, за которым было весело, Ампара и Леонора тоже пели и танцевали, как вчера те женщины в саду. Я подумал: «Да что же это такое? Тут все только поют, танцуют и молятся».
Журналисты поднялись ко мне в комнату. Посмотрев мои картины и этюды, они что-то много говорили между собой. Было уже поздно, и двое решили остаться у меня ночевать.
Портье принес матрац и одну подушку, положил на пол. Один из моих гостей лег на полу, другой свернулся на небольшом диванчике и продолжали разговаривать далеко за полночь. Интересовались, боюсь ли я медведей и Пугачева.
– Ерунда, – ответил я. – Какие там медведи!..
– Теперь, может быть, и нет, а прежде были.
Я узнал еще, что в России все едят снег, и что снег у нас другой – как мороженое, и что русские любят кататься по льдинам, которые постоянно плавают по Волге.
Утром, когда я проснулся, моих гостей уже не было.
А через день двое опять пришли ко мне и принесли газету. В ней тоже было написано про снег и медведей в России, выражалось изумление, что живопись моя непохожа на русские иконы, рассказывалось, что русские часто замерзают; их тогда кладут на печку – оттаивать, и покуда замерзший не оттает – все плачут и возносят моления.
– Верно? – спросил меня журналист.
– Верно, – согласился я. – Еще наливают замерзшему в рот воды, и когда вода во рту закипит, то, значит, жив.
Мой новый друг обиженно посмотрел на меня – ему было трудно расстаться с легендой.
* * *Окончив картину и наброски для декораций, я собирался уезжать. Предложил деньги Ампаре и Леоноре. Они обе покраснели и опять не взяли денег. Тогда я снова пошел на базар и купил им большие шелковые китайские платки в узорах, с длинной бахромой. Они с восторгом надели их на себя, смотрелись в зеркало, ловко себя закрывали и танцевали, стуча каблуками.
* * *Подошел день моего отъезда. Я зашел в мастерскую к Запатэру, взглянуть на его живопись – он был колорист и художник большого темперамента. Леонард на прощанье подарил мне свой морской этюд, он был пейзажист.
Утром портье вынес мои чемоданы и холсты вниз, к дверям. У подъезда стоял экипаж как большая черная бочка. Покуда размещали мои вещи, появились Ампара и Леонора. В руках у них были большие пучки срезанных зеленых веток, усыпанных мандаринами. Они отдали их мне в дорогу.
Мог ли я думать – это было так давно, – что доживу до того времени, когда каждый день буду читать об ужасе и горе этого прекрасного, доброго народа…
A. M. Васнецов
1856–1933 гг
Сельский иконописец
Рассказ[49]
Склонялось вечернее солнце за зубчатую линию темного Сверчковского леса. На ступеньках каменной лестницы, ведущей в церковь, сидел церковный сторож, лысый Емельян; уже ровно битый час, как он находился в этом положении, но в его лысой голове во все это время не зародилось ни одной сколько-нибудь связной мысли; он почти спал, хотя только что всхрапнул и вышел после сна погреться на теплом весеннем солнцепеке. – «Что ему делать, старому хрену?» – так бы сказал старик дьякон – первый приятель Омели, – несколько лет уже по старости находившийся за штатом и не совершавший церковных служб. Табак у Омельяна давно смолот и стоит в горшке за дверью паперти. Пару лаптей кончил он плести еще в полдень – что ему после этого делать, как не спать и не греться, как старому коту на солнышке? Он слушал, как поют петухи на селе, как весело чирикают воробьи и без умолку тараторят на колокольне галки, собираясь на ночлег. Он ощущал своими старыми жилами ту теплоту, которую порождали в нем лучи вечернего солнца. Это же радушное солнышко заглядывало чрез окна и в самую церковь, играя на золоченом иконостасе, лампадах и ризах на иконах. Хорошо было в этот вечер Омельяну на церковном крылечке, а еще было бы лучше ему, если б пришел поговорить о том, о сем пономарь Лука или старик дьякон. Такое желание Омельяна, правда смутное, не замедлило вскоре осуществиться. Увидел из окна пономарь Лука, что жил напротив самой церкви, увидел в одиночестве сидевшего старика и подумал, «дай-ка я схожу со стариком покалякать» – и вышел, надев на голову поярковую шляпу с широкими полями, а выходя, подумал: «хорошо было бы, если б и старика дьякона принесло». Пришел Лука и сел рядом с Омельяном; оба молчат, не находя предмета для разговора.
– Слышал: покойника привезли? – осведомился Лука.
Омельян, помолчав, ответил утвердительно.
– А кого?
– Николину старуху.
– Вот те на! Дай Бог ей царство небесное!.. А давно ли, кажется, пивом меня поила; прихожу, – а она плохо видела, – «здравствуй, – говорит, – сват!» и поднесла жбан с пивом, да как разглядела меня поближе – только руками всхлопала – «видно, – говорит, – скоро умру: людей перестала узнавать». Добрая была, а теперь вот лежит под нами в покойницкой.
– Да вот старик Никола не больно добер, жила! – продолжал Омеля, – рублишко лишний пожалел: под паперть велел поставить, а не в церковь. Правда, за три дня в церкви в такую теплынь старуха-то прокисла бы.
– Что это, никак в прошлое воскресенье ее внука крестили? Там окрестили, а тут – похоронили, – на том и свет стоит… Что и говорить: крепыш мужик Никола, – подтвердил Лука, думая в то же время совершенно о другом: «хорошо было бы, если б Егор пришел», – на уме у него.
– Зимой сына думает женить, слышал? – спрашивает опять Лука.
– Кто?
– Да старик-то Никола.
Молчат и оба посматривают на Егоров терем. Егор Николаич поглядел в окно и, увидав Омелю да Луку на лестнице паперти, подумал: «семко я схожу к ним, нечего же делать». Идет Егор Николаич в белом холщовом подряснике по селу, идет… и не успел подумать, как навстречу, глядь, с другого конца села и старик дьякон плетется. Сидел, сидел он дома – делать нечего: поспит, пройдется по комнате, табаку понюхает, «Епархиальные Ведомости» почитает… «А дай-ка я схожу к Омеле табаку понюхать», – решил он и пошел, опираясь на трость-самодельщинку, с выточенною утиною головкой на рукоятке. Пришли и сели все, рядком, как старые воробьи на нашесте; не было только между ними большого воробья – пономаря Мальгинова; немного погодя, глядят, и он показался в воротах своего дома. Теперь недоставало только Семена Иваныча Копысова, местного иконописца, попросту Сеньки, и эта недостача была немаловажная. Церковная лестница в теплые летние вечера была любимым местом для собраний приятелей: это был клуб, ратуша – все, что хотите. Здесь они просиживали нередко до глубокой ночи, калякая о том, о сем, решая житейские дела, интересы прихода, епархии и даже всего Русского государства. Тут слышались одобрения или порицания нововведениям в среде духовенства и крестьянства, тут же порой рождались остроты, шутки, способные рассмешить хоть кого. В долгую зиму подобную же роль для приятелей играла церковная сторожка, где безвыходно жил Омеля, круглую зиму занимаясь молотьем табаку и плетением лаптей. О первом Омелином занятии нельзя пройти молчанием. Табак Омеля молол, нужно сознаться, на славу: на что старик дьякон – и тот чихал от его табаку; впрочем, только в тех случаях, когда погода хотела перейти в ненастье. При всех же других обстоятельствах старик никогда не чихал; много-много, моргнет седой бровью да оботрет платком слезу, выступившую на глаза от слишком злого табаку или чересчур большой понюшки. Секрет приготовления «носового зелья» долго находился в руках Омели, но однажды как-то удалось старику дьякону выпытать великую тайну. Она состояла вот в чем. Омеля клал в табак, когда молол его в горшочке при помощи огромной дубины, немного золы, да чемерицы, да подбавлял три сухих дубовых листа, а «для духу» клал камфоры. При всем том старик дьякон как ни старался в точности выполнить рецепт, не мог приготовить такого табаку, с которого бы хоть раз удалось чихнуть, – так пальма первенства и осталась за Омелей. Старику дьякону не было известно главное: Емеля знал «хитку», а хитка эта – хоть вымотай у него все кишки – ни за что не сорвалась бы с его языка. Где старому хрену дьякону догадаться хотя бы, например, о том: молоть табак только по четвергам да вторникам и ни за что по понедельникам и пятницам: в них хоть размелись – никакого толку не выйдет. Или брать дубовые листья только с дуба, который растет на «трех ветрах», – никогда бы это не пришло старику на ум. Омеля в то же время был всегдашним председателем, хотя и безмолвным, на всех собраниях приятелей. В его руках была возможность закрыть или открыть заседание, так как у него хранились ключи от паперти, – значит, он же и распорядитель клуба. Омелина невозмутимая физиономия и на этот раз среди всех, сидевших на лесенке, красовалась юпитеровски торжественно и строго.
– Егор, тебе сверчковцы хотят наломать шею, – такими знаменательными словами открыл заседание Лука.
Сверчки – богатая деревня недалеко от села, обладавшая самым большим лесом в приходе.
– Это кто? Не Александр ли тебе говорил? Точно, я его встретил там. Молчал тогда, карамора, а стороной: так и шею наломаю. Наломал бы я ему там!.. – Произнеся последнее слово, Егор Николаич показал увесистый свой кулак, глядя на который нельзя было не верить в действительность угрозы. – Да и на тебя, Лука, грызутся они, – добавил он язвительно.
– А что с меня взять: я рублю, где и все рубят.
– То-то! Эти жиды-сверчковцы живут богачами: что лесу, что лугов! а жаль им лишней пихты. Не полез бы к ним, да негде в другом месте взять-то ее. Вон, без малого полсотни надо пихтовых штучин на стропила и желоба к дому и службам.
По-видимому, разговаривая так, они не имели никакой посторонней мысли или желания, а между тем у всех было на душе тайное ожидание Семена Иваныча; глядя на его хату, Егор продолжал:
– А где достанешь лесу, кроме как у них, богатеев. Хоть с фонарем нынче ищи кругом лесу – не найдешь. А лет пятнадцать назад – поезжай в ближний лог – сколько хочешь руби, под самым ведь носом; да вон, недалеко глядеть, – и Егор Николаич указал на лог сейчас же за селом, где на месте исчезнувшего леса давно уже не было ни единого пенька.
– Да что! – сказал он после некоторого молчания, – мой-то дворец из какого лесу? Вниз по реке весь рублен – вот как! – сказал он и победоносно посмотрел на всех.
Впрямь, год от году лес редел кругом, жалобы на безлесье слышались чаще и чаще. Многие из старых обитателей прихода, благодаря этому, уехали далеко в починки: в Сибирь, на Амур, навсегда простившись с родиной. С исчезновением лесов как-то само собой связывается прогрессивное вымирание и героев села. Как ели-великаны, росшие по полям его, – бренные остатки былого леса – склоняли долу свои старые головы под топором, так и герои села гасли один за другим под косой времени… Бесследно, тихо уходили они в темную область смерти, и лишь могильные холмики на кладбище говорили об их бренном существовании. Но холмик постепенно зарастал травой, равнялся с землей, а с ним исчезало с лица земли и последнее воспоминание о жившем. Где теперь все те, которые сидели в этот ясный летний вечер на церковной паперти? Давно уж их унесла могила, и тот, кого я взял предметом настоящего рассказа, его первого не стало среди них. Его приятели в этот вечер то и дело посматривали на так называемую церковную избу на краю села, где Семен Иваныч имел пристанище; но Копысов не показывался; решили, что их приятель снова запил и время проводил в кабаке. Сидят старые воробьи на холодной каменной ступеньке, которую успели уже нагреть, – сидят и видят, что в овсяном поле за огородом что-то движется в траве черное. Что за диковина! – думают. Вот как будто спряталось, опять показалось немного поодаль.
– Стой! да это, никак, попов теленок. Те-те, дай-ка угощу его дубиной по хребту, давно уж добираюсь до него после того, как он попортил у меня рассаду, забравшись в мой огород, – и с этими словами Мальгинов выдернул дубинку из груды тут же наваленных палок, которые служили материалом для балагана во время воскресного торга. Заручившись оружием, Мальгинов тихо пошел вдоль церковной ограды, стараясь не спугнуть теленка прежде времени. Все следили за Мальгиновым и ждали: что из всего выйдет. Только, странное дело, с того самого момента, как Мальгинов погрозился угостить дубинкой попова теленка, последний точно сквозь землю провалился. «Вот смышленая скотина», – подумал пономарь. Но тут произошло нечто, повернувшее дело совсем в другую сторону. Не дойдя до огорода, Мальгинов неожиданно остановился, с сердцем плюнул и, бросив палку, пошел обратно, а то, что было теленком, поднялось в виде Копысова. Ругаясь, он уж явно пошел по направлению к кабаку, держась задворков. Но вовремя, видно, закричали ему старик дьякон и Егор:
– Куда ты, куда ты? Держи его, ату его!
Копысов постарался не слышать оклика и как ни в чем не бывало продолжал воровской путь.
– Сенька, Сенька! куда тебя понесло? Стой! Иди сюда! – закричал Егор Николаич голосом, которого нельзя было не слышать: и мертвых бы разбудил он, в церковной ограде мирно почивавших. Копысов, бормоча ругательства, невольно перенес ногу через огород и направился к сидевшей на паперти компании.
– Хе-хе-хе-хе! – встретил его обычным негромким смехом старик дьякон. – Куда это ты собрался, травленый заяц?
– Молчи, дьякон! – сердито ответил живописец.
– Всем ты был бы у нас хорош, Сенька, да зачем любишь того… – сказал Егор и щелкнул пальцем левой руки у себя за ухом, – закладываешь, – пояснил он жест словом, которое, в свою очередь, тоже требовало пояснения.
– Ну, и ты туда же! Молчи, черт, дьявол! – огрызнулся Сенька.
– И колер у тебя хорош в образах, и чисто пишешь, а вот… – и Егор Николаич пожал плечами, – любишь лишнее выпить, как и грешный наш пономарь Александр Николаич, – добавил он, указывая через плечо большим пальцем правой руки на Мальгинова, но так, как бы хотел сделать это незаметным для последнего.
– Тьфу! – отплюнулся тот, – не теперь бы тебе вспоминать об этом: на животе как кошки скребут, а жена третий день выпить не дает… только аппетит разжег.
Копысов ответил на шутку Мальгинова пьяным, неудержимым смехом и сел рядом с другими; теперь их стало шестеро; он заговорил:
– Ты, Егор, говоришь про колер, а знаешь ли ты это слово? Ты сболтнул спроста, ан дело-то не больно просто, – и Копысов многозначительно подмигнул, – колер? ты думаешь: краска; нет, шалишь! Краска – краской, а колер – колером, вот что! Нет, ты скажи мне, соснова-елова, где ты найдешь такой колер, как У меня, Копысова? Бьюсь об заклад: кто кругом пишет, как я, – найди – спасибо скажу. Сунской – тот просто маляр; Чернышев – да он предо мной мазилка. У меня в иконе если лицо – так лицо, рука – так рука, небо – так небо! Я и драпировку положу как следует. А кто пишет с золотом, как я пишу? Скажи на совесть, соснова-елова, кто? Другой ляпает его на икону, где не следует, и весь колер собьет, а я знаю, как им распорядиться.
– Ишь куда хватил! куда занес, Сенька?! – поглядывая на других, как бы спрашивал Егор Николаич.
– Да что, в самом деле, будет, довольно! Сенька Копысов пьяница, Сенька такой-сякой – только и слышно, а во каков Сенька Копысов! Мало того, когда я учился в Москве, на выставке копию с оригинала, «Турчанку», продал за пятнадцать целковых чистоганом; скажут, невиданное это дело, чтобы нашелся дурак и дал за картину пятнадцать целковых.
– И впрямь, уж не хвастаешь ли? – усомнился Егор Николаич.
– Да коли я хвастаю, – произнес Копысов и стал на площадке перед честной компанией, – если не правда то, когда я учился в Москве и продал «Турчанку» за пятнадцать целковых, – не правда – пусть провалюсь на самом этом месте сквозь землю, – сказал он и молча сел на старое место.
Старик дьякон собирался было что-то сострить в ответ Сеньке, да никак слова не лезли ему на язык, и ограничился он только тем, что скривил рот да почесал седую бороду двумя согнутыми пальцами; может быть, он и собрался бы уязвить друга, но Лука прервал его.
– А правда ли, Семен Иваныч, – начал Лука.
– То-то, Семен Иваныч!.. – многозначительно произнес Семен Иваныч. – Ну, что, правда ли, – говори, я слушаю.
– Правда ли, Семен Иваныч, сказывают про этого самого живописца – как его… Ну, про которого ты часто вспоминаешь, мудреное имя-то больно. Ну-ка, Семен Иваныч, припомни.
– Ничего, ты говори со мной спроста, по-старому – не обижусь. Это про Рафаэля ты хочешь знать?
– Да, да, про него самого. Правда ли, говорят, в малолетстве был с ним такой случай… Это мне рассказывал певчий из архирейского хора… – Но не вовремя пономарь Мальгинов прервал начатый было Лукою рассказ из детства Рафаэля.
– Про какого вы там живописца говорите? – недоумевал Мальгинов. – Новый, что ли, появился; не слыхать что-то было про такого по околотку.
– Этот жил в Италии и давно уж умер, – пояснил Лука.
Копысов язвительно улыбался, глядя на Мальгинова.
– Не совался бы, когда не знаешь… «по нашим седым»?! Да такого днем с фонарем ищи – не сыщешь, исходи хоть весь свет до Камчатки, а то и еще дальше. Одно слово: гений! Вот тоже оригинал: в одно с ним время жил Микель-Анжело. Это был, я тебе скажу, такая садова голова: ерой! Самому папе римскому в бороду плевать хотел, – во какой оригинал! Одно слово, соснова-елова, кремень человек – огонь. Такую махинищу заворотил: собор Петра в Риме – первый собор во всем свете! Глядя на него, думаешь: не дело это рук человеческих; чтобы человек, этакая, с позволения сказать… – тут все ждали сравнения по крайней мере неприличного, но ошиблись, – песчинка в сравнении с собором и сложил из камня такую громадину.