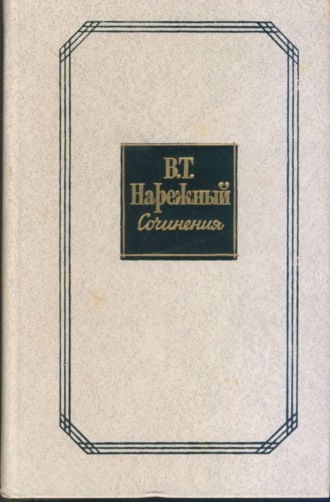 полная версия
полная версияРоссийский Жилблаз, Или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова
С сими словами надел он на палец Лизы брильянтовый перстень и, оборотясь ко мне, продолжал:
– Ты остаешься у меня и, надеюсь, будешь доволен мною, как и сестра твоя Лиза. Поедем отмщать, а после я буду здесь.
Лиза провожала нас, представляя печальное лицо и умоляя Куроумова не забыть обещания посетить ее в этот еще вечер. «Не забуду, моя душенька», – говорил он и с сильным кряхтеньем уселся в карете, а я подле него. Во всю дорогу он стонал, и стон его походил на скрыпение старого дерева, сильно вихрем колеблемого.
Когда въехали на двор и Куроумова высадили из кареты, он грозно закричал: «Подайте бездельника Савкина!» Когда Савкин явился, то я увидел пожилого старичонка с седенькою бородою и лысиною. Ростом был он не более двух аршин с вершком, тощ, подслеповат, немножко горбат и курнос. Как можно было почесть его способным влюбляться, а особливо в Лизу? Однако Куроумов почел его изрядным еще молодцом. «Как, – вскричал он, – осмелился ты, поганый сын, открываться в любви такой особе, которую я сам люблю, и еще называть меня безобразным скрягою?»
Бедный Савкин помертвел, выпучил глазенки и дрожал, не зная, что отвечать хозяину; ибо он совсем ничего не понимал. Такое положение его почел Куроумов за признание в грехе, рассвирепел, поднял пудовую десницу свою, занес ее на Савкина, крепко замахнулся; но маленький кащей отскочил, и толстый откупщик растянулся на земле.
Савкин поражен был новым ужасом и хотел бежать, но приказчики и лакеи, почитая поначалу, что он сделал уголовное преступление, поймав, подвели к Куроумову, который меж тем, вставая с помощию трех человек, говорил: «Господи помилуй! Злодей уморит меня! Вижу теперь ясно его преступление! Вытолкайте сего бесчинника в шею со двора, заприте вороты, а животишки его выкидайте через забор!»
Богатых слушают скоро. Часть работников начала бедного Савкина щипать и толкать в затылок, а другая бросилась за его пожитками и, не щадя ничего, начала швырять чрез забор на улицу. Бедный Савкин не мог противиться; он шел, обращая глаза к небу, и говорил: «Господь да воздаст тебе, о Куроуме, я же воздавши рабу его Савкину!» Через пять минут все было окончано: хозяин приказал отвести мне покои прежнего управителя и поверенного и, севши в карету, сказал: «Ну, Гаврило Симонов! Теперь еду я к Лизе и буду там ужинать; ты между тем осмотри новое твое жилище и перевези какие имеешь пожитки от прежнего хозяина!»
Он съехал со двора. Мне показали будущие мои два покойчика, довольно порядочно убранные. Распорядя все, я бросился в дом Доброславова, рассказал ему и Олимпию о своих успехах и обоих привел в восхищение. «Не робей, друг мой, – говорил первый, – как скоро окончание будет соответствовать началу, то ты награжден будешь с избытком». После сего он с добрый час делал мне наставления, как поступать, и отпустил, наградя кошельком, полным золота, чтоб одушевить мою бодрость, и велел на третий день, как скоро Куроумов съедет со двора, поспешать к нему, дабы вместе отправиться во собрание просветителей. Я простился, и двое слуг потащили мое имение.
На другой день вступил я в новую должность, которая, по словам самого Куроумова, состояла в том, чтоб вести переписку с его красавицами, во-первых, с Лизою, а там Машею, Грушею и проч.; а после смотреть над приказчиками и поверять их счеты.
Господин Куроумов вместе с тем, что был богатый откупщик питейных сборов, имел большие заводы отечественных изделий, кои отправлял за море. Дом его снаружи походил на дворец, а внутри был хуже сарая. Передняя в сем доме была обширная комната, увешанная кнутьями и пуками лоз; ибо Куроумов слыхал, что знатные отличаются, между прочим, от других и тем, что жестоко наказывают людей своих за маловажные вины, а часто и невинно, по одной прихоти, чтоб бедняки не забывали, что они имеют господина. «Мы господские!» – крестьяне многих говорят с таким лицом и таким голосом, как будто бы хотели выразить: мы осужденные в жизни сей на одно страдание! Господин Куроумов хотел доказать, что он – помещик, хотя и недавний, и в доме его раздавались стоны. Зала дома того была богато расписанная комната с позолоченными карнизами; зато вместо люстры висел мешок копченых окороков, а взамен жирандолей стояли бураки с икрою разных родов. Все комнаты были убраны подобным сему образом. Где стояли кадки с салом, где кучами лежали говяжьи сырые кожи; а в спальне, в которой блистала штофная кровать, стоял чан с дегтем, который в плошках курился местах в десяти. Кто-то из иностранных врачей уверил Куроумова, что он подвержен апоплексии и, верно, погибнет, если в спальне его не будет деготь беспрестанно гореть в известной пропорции.
Помня твердо последнее наставление Доброславова, я не намеревался из головы моего хозяина выгонять овладевших им дурачеств, а только хотел переменить направление их по своим видам. Я знал, что сделать его путным человеком дело невозможное, ибо он избалован счастием, если сим именем можно назвать богатство и получаемые чрез него выгоды. Первый день провел я в рассматривании всего дома и живущих в нем; потом, рассудя, что скоро действовать значит действовать худо, положил не прежде приступить к исполнению плана, как, вызнав хорошенько порядок жизни, образ мыслей, страсти и – буде есть – добродетели Куроумова; а между тем, чтоб время не пропадало, приложить все старание склонить на соответствие прекрасную Ликорису. «Кажется, Феклуша, – говорил я, – обязана содействовать. Я так великодушно простил ее! Она меня обнадежила! Чего сомневаться?»
На другой день ввечеру, как скоро мой Куроумов съехал, чтоб представлять Полярного Гуся, я бросился к Доброславову, сел с ним и Олимпием в карету, и поскакали. Теперь уже глаз мне не завязывали. Дорогою я рассказал им свои замечания и намерения в рассуждении Куроумова.
Глава XVI
Принц Голькондский
Когда вступили мы в залу в своих величественных нарядах, то нашли уже несколько человек из собратий, в числе которых заметил я Полярного Гуся и маленького Скорпиона, который, увидя меня, подскочил, как приметно было, с удовольствием, взял меня за руку и сказал с дружескою укоризною: «Что же, любезный Козерог, не сдержал ты своего слова? Я всякий раз смотрел во все глаза, не увижу ли кого делающего масонские знаки, но, не видя никого, сам принимался, чесал затылок нещадно, но по-пустому.
– Этому есть важная причина, дорогой Скорпион, – отвечал я. – На сих днях назначен я к миссии при дворе сильного владельца, однако ж сие обстоятельство не помешает мне каждую субботу присутствовать в собрании просветителей мира. Как скоро кончу с успехом важную мою миссию, тогда непременно посещу тебя и постараюсь приобрести дружбу.
– Я совсем тебя не понимаю, – сказал Скорпион.
– Что делать! – отвечал я с важностию. – Значит, ты еще не просветился и взор твой не может подобно моему расторгать завесу вечности и созерцать духов!
Скорпион с благоговением отступил; возвещено о прибытии Высокопросвещеннейшего, все уселись на своих местах, и когда вошел он в залу, то братия, вставши, запели песнь:
Блеснул, блеснул троякий свет!Прогнал лучами мрачность ночи!К святилищу преграды нет:Питайтесь истиною, очи!При свете тройственных лучейПознайте чин природы всей!Во время сего пения Высокопросвещеннейший в предшествии семи горящих светильников, сопровождаемый кадильницами благовонными, шествовал к своему седалищу. Прибыв к оному, воздел к небу руки и про себя молился. Потом начал говорить, сперва тихо, а после громко и с жаром: «О ты, великая единица, совокупившаяся с соцарствующею тебе двоицею и вращающая всеми числами до девяти! Непонятна ты для мира подлунного, невидима, непостижима! Но взоры мудрых друзей твоих проницают в состав твой. Недра твои, подобные океану огненному, наполненному выспренных плодов от древа жизни, для них отверзты! Они проницают непроницаемое и видят, как ты громоносною рукою, взяв в персты циркуль измерения и утвердив один конец на персях своих, вращаешь, очертываешь». Тут я, приметя, что при всем внимании опять ничего не могу понять, перестал и слушать; а единственно занял воображение Ликорисою и ее прелестями. Сколько Высокопросвещеннейший ни кричал, сколько ни горячился, я глядел на него покойно, думая: «Ах! скоро ли настанет минута удовольствия, гораздо большего, чем созерцать духов в недрах вечности!»
Речь кончилась; я с нетерпением ожидал минуты, когда вступим в эдем, обещанный в предыдущей песне; но назло моему нетерпению просвещенные братия, опять затянули унывно:
Отыди прочь, жестокосердый,Пред кем напрасно слезы льют;Беги, скупый, немилосердый,Здесь ближним помощь подают!По окончании пения, походившего более на плачевный вой голодных волков, все встали, и я увидел, что мой Полярный Гусь притащился к столику, на котором лежала разгнутая книга живота, и что-то вписал в нее. Тут по порядку следовали Телец, Овен, Лев и многие из отличнейших животных. Что касается до меня и смиренного Скорпиона, то мы стояли поодаль и смотрели на толпящихся. Когда вошли в чертог духовной радости (так братия называли комнату с бархатными обоями) и уселись за стол, я спросил Скорпиона: «Для чего просвещенные братия теснились к книге и что в ней вписывали?»
– Как? – спросил он с удивлением, – где ж был ты, когда великий настоятель говорил прекраснейшую речь в свете?
– Признаюсь, – сказал я, – что был недалеко, однако ж и не в той мрачной зале. Мысли мои блуждали в месте гораздо приятнейшем, и я очень одолжен был бы, если б ты открыл мне причину!
Скорпион согласился и во время ужина рассказывал следующее: Высокопросвещеннейший, открыв очень ясно гармонию духов и симпатию душ, посредством чего они, быв заключены в телах, могут видеть одна другую и разговаривать, хотя бы одна была в Москве, другая – в Филадельфии, одна – в аде, другая – в раю, доказал, что помощию сей гармонии усмотрел он одно несчастное семейство, состоящее из отца, мудрейшего старца; жены его, добродетельнейшей женщины; двух сыновей, храбрых, как Марс, величественных, как Аполлон; и двух дочерей, прелестных, как Венера, и целомудренных, как Диана.
Отец с семейством жили сперва в Москве доходами с обширного имения; но когда родилась у всех сильная охота странствовать, то и они отправились в С.Петербург, сели там на корабль и пустились в океан. Долго плавание их было благополучно; наконец поднялась ужасная буря. Четыре месяца носило корабль по волнам, угрожая разрушением, что и последовало у неизвестных берегов. Старик ухватился за корабельную доску, старуха за него, за нее сын, за того другой, а там следовали и дочери. Тринадцать дней их носило по пенящимся волнам, пока выкинуло на берег. Они, без сомнения, погибли бы в волнах, если б не составили цепи, из чего заключить должно, что они масоны. Там наскочило на них несколько сот диких людоедов, которые, связав им руки и ноги, отвели в плен, туда, где со страшных скал низвергается с ревом Миссисиппа.[87] Участь семейства самая жалкая. Людоеды так скупы, что без денег не дают ничего, а потому честные пленники едят траву и коренья подобно Навуходоносору. Но государь сей был великий гордец и грешник, так его и следовало наказать; но за что терпят добродетельные?
Скорпион рассказывал повесть таким унывным голосом, что я засмеялся громко. Высокопросвещенные, споря с жаром о наслаждениях, какие приличнее душе по исходе из тела, того не заметили.
– Чему ж ты смеешься, брат? – спросил Скорпион.
– Чудесности твоего повествования, – отвечал я. – Прочти все путешествия около, вдоль и поперек света, нигде подобного не сыщешь. И почему все это известно Высокопросвещеннейшему?
– Посредством гармонии душ, – отвечал он. – Прошлая ночь была звездная. Чтоб узнать судьбу мира, Великий Настоятель глядел на небесного Дракона. Нечаянно глаза его обратились к западу; он увидел старца у истока Миссисиппа, вступил с ним в разговор и все узнал.
– Но каким образом?
– Как? ты сомневаешься? Или тот, кто проницает будущее, смотрит в пучину небес и постигает вечные тайны, или тот не увидит чрез океан, горы и леса? Так, любезный Козерог, это было! Его Высокопросвещенство, вступя в разговор с пленными, узнал, что лихие дикие не хотят отпустить их без пяти тысяч рублей выкупу. А как на проезд понадобится столько же, то благочестивый муж и предложил собранию, не согласятся ли просвещенные братия внести сумму сию? Он говорил так пленительно, что братия Телец, Полярный Гусь и Западный Рак тотчас подписались на пятнадцать тысяч рублей, которые деньги завтра же доставлены будут Высокопросвещенному, а он по внушению симпатии перешлет куда следует.
Я не мог воздержаться, чтоб не засмеяться снова, слушая сии нелепости. Когда стол кончился и, по обыкновению, явились красавицы и начались танцы, я заметил, что моя Феклуша кидала на меня пасмурные взоры, но зато Ликориса превосходила сама себя. Ее легкость, любезность, пламень в каждой черте делали ее богинею. От меня не утаилось, что она украдкою бросала на меня взоры. Я был в восхищении, и когда Высокопросвещеннейший спросил под конец, кого избирают царицею ночи, я первый вскричал: «Ликорису!» «Ликорису!» – раздалось со всех сторон, и она воссела на троне. Когда приближился я к урне и вынул с крайним волнением жребий, смотрю и со стоном произношу имя: «Филомела». Итак, я лишаюсь случая видеться с Феклушею, а с тем вместе и с Ликорисою. Лавиния моя вскоре досталась Скорпиону, и надежда моя возобновилась. Я подхожу к нему и говорю ласково: «Любезный брат! Подруга моя прекрасна, как майский день, свежа, как юная роза! Не хочешь ли, я уступлю ее тебе, а ты отдай мне Лавинию!» – «С охотою», – отвечал он. Мы разменялись; сели на диванах и скоро очутились в уединенных опочивальнях.
– Что, любезная моя княгиня? – говорил я, нетерпеливо отвязывая маску, – каковы твои успехи?
– Я не знаю, что и сказать тебе, друг мой; вышло то, чего я и не ожидала. Ликориса или полупомешанная, или великая плутовка! Когда я открыла о страсти твоей к ее прелестям, она улыбнулась, покачала головою, залилась слезами и спросила: «Какого он состояния?» – «Об этом я ничего не могу решительно сказать, – отвечала я, – только слышала, что он знаменитый человек!» – «И богат?» – «Опять не знаю, однако надеюсь!» Тут по секрету она открыла мне, что происходит из владетельного дому князей Тибетских; что в молодости лишилась родителей; что какой-то злодей отнял все ее владение, чрезмерно большое; и что она дала клятву не отдаваться в любовь никому, кроме разве такого же князя, который помощию оружия или золота возвратит похищенное имение. Теперь суди, как знаешь!
– Что ж тут долго думать, – вскричал я, – когда она такая знатная княжна и не совестится быть жрицею в сем храме, то что мешает мне самому быть светлейшим князем или владетельным принцем?
Лавиния одобрила мысль мою смехом, и мы услышали легкую походку. Дыхание мое остановилось, сердце затрепетало, кровь запылала. Двери тихо отворяются, входит Ликориса и с нею сонм прелестей. Белое спальное платье обвивалось около лилейного стана ее. Щеки ее горели румянцем стыдливости; она потупила взор и молчала. Кротко волновалась грудь милой красавицы.
Мгновенно упал я на колени и возгласил самым феатральным голосом:
– Прелестная, обожаемая княжна! Прими признание в пламенной любви владетельного принца, который во прахе у ног твоих умоляет о соответствии! Я буду счастливейший из всех обладателей народов, когда ты удостоишь меня благосклонным взором!
Проговоря такую красивую речь, я схватил с жаром ее руку, покрывал пламенными поцелуями и беспрестанно твердил:
– Прости, дражайшая княжна, дерзость, что осмелился возвести на тебя взор любви моей. О! как обрадуется престарелый родитель мой и многочисленные мои подданные, когда узнают, что я возвожу на трон такую богиню!
– Встаньте, принц, – сказала она нежным, сладости исполненным голосом. – Вам приличнее быть у груди моей, чем у ног. Такой достойный мужчина может ожидать соответствия и от самой принцессы.
Я кинулся в ее объятия и прижал к сердцу.
Когда сели мы на диване, я не видал уже Лавинии. Она, видно предоставила мне одному пещись о своем благополучии.
– Скажите, княжна, чем вы несчастны? Подруга ваша рассказала мне, что злодеи лишили вас владения, ограбили? О! наименуйте мне их только, и через несколько недель огромное войско моего родителя явится защищать права ваши!
– Ах! – сказала Ликориса с тяжким вздохом, – неужели буду я виною страшного кровопролития! Я сего ужасаюсь и желала бы, любезный принц, чтоб дело обошлось без таких насильственных способов! Тиран, выгнавший меня из владений, соглашается уступить мне все за несколько тысяч рублей.
– Это прекрасно! – вскричал я с величайшею важностию. – Завтре же отпишу к моему отцу и вскоре получу золотые кучи, которые предоставлю вашему распоряжению.
– А где владения вашего родителя? – спросила она. Я немного позамешался, но скоро оправился и отвечал:
– Столица отца моего есть Гольконда в Индии. Там золота, алмазов целые горы! Там…
– Да вить Индия очень далеко, слыхала я.
– То другая. Вить их много! Индия, подвластная отцу моему, недалеко от Каспийского моря, и письмо к нему обращается в три недели, а в хорошую погоду и того меньше.
Однако, хотя княжна время от времени становилась нежнее, а я лгал час от часу бесстыднее, но кончилось тем, что звук утреннего колокола застал нас в некоторой размолвке. Княжна Тибетская хотела уверения в любви моей, то есть требовала золота; а где его взять? Я не алхимист! Сколько я ни умолял непреклонную, она клялась, что не прежде сделает меня счастливым ее обладателем, пока получит ответное письмо от отца моего с приложением червонцев. Она вырвалась из моих объятий.
Надевая маску, я вздыхал. Жестокая! Думал ли я, что ничтожный металл подействует над сердцем твоим более, чем знаменитое титло принца Голькондского?
Глава XVII
Успехи в просвещении
Не получив успеха в любви, я хотел иметь его по крайней мере в поручениях просветительного общества. На сей конец, представя в уме своем все наставления Доброславова в надлежащем порядке, однажды вошел я в комнату Куроумова и говорил:
– Милостивый государь! Не удивляйтесь, если я буду говорить вам истину. Вы любите Лизу, сестру мою; она вас обожает; а потому и брат ее не может не любить вас чистейшею любовию и не стараться о пользах ваших. Недавно начитал я в иностранных газетах, что один парижский откупщик, гораздо менее вас имеющий капитала и ума, удивил всех сограждан тонкостию мыслей своих, великостию воображения и благородным употреблением богатства. Дом его, который можно назвать дворцом, блестит золотом, дорогими картинами, эстампами и всякого рода редкостями. Библиотека самая избранная. Знатнейшие вельможи за счастие почитают у него отобедать, провести вечер за концертом и вообще побеседовать. Не жалко ли, что вы, с таким умом и с таким просвещением, нимало не печетесь сделать имя свое известным свету, чтобы и об вас печатали в газетах, переводили на все иностранные языки и во всех столицах говорили о ваших неподражаемых добродетелях, как-то: вкусе, гостеприимстве и милосердии к неимущей братии?
Куроумов был восхищен моим витийством. Он прежде задумался, потом завел со мною длинный разговор, каким бы образом достичь той великой цели, о которой я проповедовал. Я уговорил его вытаскать прежде все бочки с салом, говяжьи кожи, деготь и прочие мебели; а на себя брал обязанность приискать для него новые в лучшем вкусе мебели, прекрасную библиотеку и картины известнейших мастеров. Куроумов на все с радостию согласился, проклиная прежнего управителя Савкина, который столь был бессмыслен, что во всю жизнь не читал ничего в газетах, кроме о торгах и подрядах, и нимало не знал толку в картинах.
В тот же день все было из дому вытаскано в сараи; и когда новый мудрец Куроумов уехал на вечер к Лизе, чтобы обрадовать ее дорогим ожерельем и вестию о прозорливости и усердии брата ее, я бросился к Доброславову, рассказал все и привел его в восторг. Он придал мне в помощь Олимпия, и мы в час набрали на толкучем рынке великое множество разных мебелей, книг и древних картин, что всё едва на десяти возах мог притащить в дом своего хозяина. Нельзя вообразить его восхищения при первом взоре на сии драгоценные оттенки вкуса и великой мудрости. Равным образом и я был поражен, взглянув на него и не видя ни усов, ни бороды, и остриженного в последнем вкусе.
– О небо! – вскричал я. – Какому божеству обязаны вы таким счастливым превращением? Конечно, какой-либо благодетельный гений, следующий по стопам великих людей…
– Этот гений, – сказал с улыбкою силена Куроумов, – небольшого роста, с черными сверкающими глазками, с полными румяными щечками; словом, это сделала сестра твоя Лиза. Она, шутя и играя, остригла мне голову и бороду. Впрочем, я рад! Теперь сам не понимаю, как мог в прежнем безобразном виде нравиться девушкам, а более всего заседать в присутствии просвещеннейших людей? Знай, друг мой, я – член такого сословия, которое проницает тайны будущего и созерцает духов! Правда, я не достиг еще сей степени совершенства и ношу смиренное имя почтенного брата Полярного Гуся; но скоро посвящен буду в просвещенного брата, и тогда сам буду видеть духов и с ними беседовать!
Я оказал притворное удивление и благоговение к такой великой особе, насказал множество примеров, кои будто читал где-то, как великие просветители мира вызывали духов и проч. Полярный Гусь был в неописанном восторге и наперед рассказывал мне, о чем будет рассуждать с духами.
Мебели, картины, эстампы и книги – все поставлено в списке непомерно дорогою ценою. Я рассказывал ему имена живописцев, граверов и сочинителей, которых никогда и на свете не бывало; да я и сам не знал тогда имени ни одного из лучших живописцев.
Чтобы не наскучать подробными рассказами о всех глупостях, в которые по общему нашему наущению вдавался Куроумов, я скажу, что в течение двух с небольшим месяцев мы высосали у него до полумиллиона, – то на выкуп пленных или содержащихся в тюрьмах, то на вспоможение благородным фамилиям, кочующим в Камчатке, на берегах Урала, Енисея и проч. Редкое собрание проходило, чтобы Высокопросвещенный не говорил с отличным витийством о том, к чему уже смиренный брат Козерог склонил прежде Куроумова. К общему нашему несчастию, откупщик сей, вдавшись в праздность, лень, совершенное сладострастие, оставил дела свои на попечение приказчиков, которые по заведенному порядку пеклись больше о себе, чем о хозяине. По подрядам сделались значущие неисправности; имение Куроумова описано, и дом с библиотекою и картинами продан с публичного торга. Тут с удивлением смотрел он, что нашим редким картинам и книгам, которые так дорого стоят, никто не удивляется и продают их за бесценок. Я был при плачевном сем позорище. Сначала Куроумов стоял неподвижен и дико смотрел на кричащего аукциониста. Глаза его сурово по сторонам обращались. Из одного скрежета зубов было видно, что он не трус. Потом нередко бил он себя по лбу и ломал пальцы.
Когда все кончилось и ему новый покупщик дома указал на двери, я не знаю, какое дурачество, или, лучше сказать, бешенство обуяло мною так, что я вдруг забыл все наставления мудрого моего Доброславова, наполнился спесью, хвастовством о великих подвигах своих, или, правильнее, бездельствах, и, отведши Куроумова на сторону, сказал, коварно улыбаясь и сильно шаркая ногами:
– Простите, почтеннейший Полярный Гусь! Не припомните ли не простого брата Козерога? Знайте, это самый я!
Куроумов смотрел на меня сперва с удивлением, а потом с бешенством.
– Как? – вскричал он. – Так я был игрушкою, орудием обмана? О! это не пройдет вам даром, злодеи! – Он погрозил палкою и вышел на улицу довольно бодро. Откуда взялись силы у человека, который не мог прежде сойти с лестницы и сесть в карету без помощи нескольких слуг? Я смеялся вслед ему, крича:
– Добрый путь Полярному Гусю!
Сделавши сие дурачество, я опомнился; был недоволен собою и решился ничего не сказывать о сем Доброславову, опасаясь выговора. Я пришел в его дом и занял прежнюю должность. Господин Высокопросвещенный и Олимпий осыпали меня похвалами, отсчитали значущую сумму денег и позволили отдохнуть, пока не прийдет время снова действовать. К пущему моему огорчению, Куроумов был прост до ребячества. Он всем знакомым и незнакомым рассказывал о своем несчастии и его причине, и один насмешник нанял стихотворца, который и сочинил преколкую сатиру, в коей представил Полярного Гуся, совершенно ощипанного, а потому, вместо того чтоб парить к звездам и созерцать духов, смиренно путешествующего пешком, повеся голову, по колена в грязи. Куроумов прочел ее и поклялся непримиримою к нам ненавистью. Мои сотрудники в просвещении о сем узнали посредством своих шпионов и, с своей стороны, начали рассуждать о средствах, каким бы образом у ощипанного Гуся поукоротать язык.
Между тем заседания по-прежнему продолжались. Ликориса посещала мою опочивальню, но была все так же непреклонна. Она ожидала ответа царя Голькондского, моего державного родителя. Я приписывал вину молчания или дурной погоде, или неисправности почт, или разбойникам, которые могли посланцев с деньгами ограбить, убить, утопить и проч.









