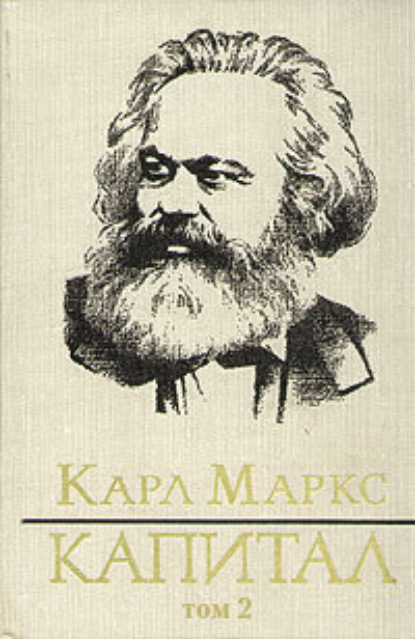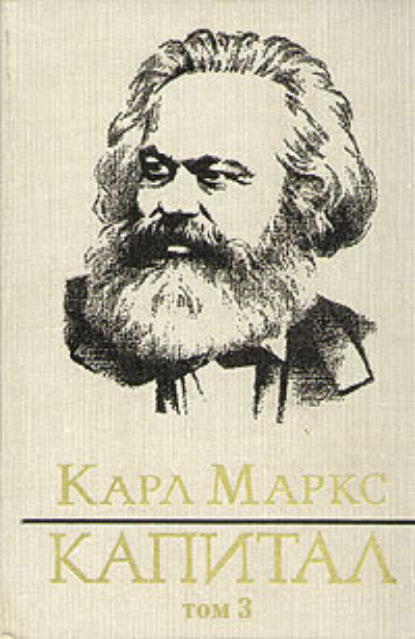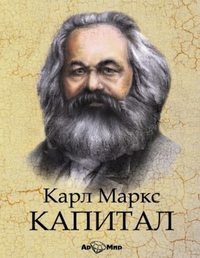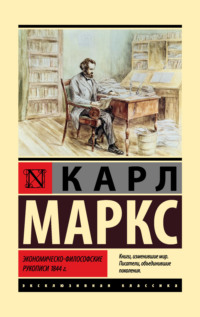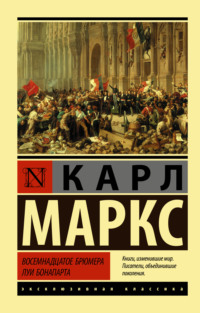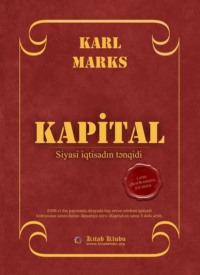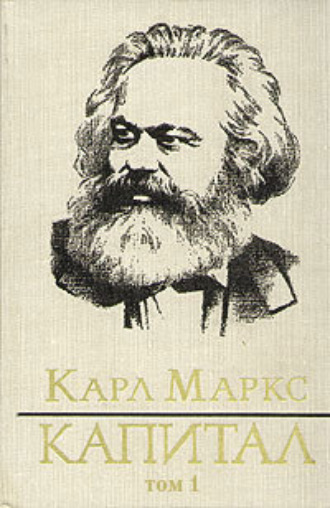
Полная версия
Капитал. Том первый
Именно в этом решающем пункте расхождение между Марксом и Ницше достигает крайнего напряжения. Вот уж где и в чем им никогда и никак не светило столковаться, так это по данному вопросу о не/возможности свободы без (освобождения от) рабства. Их несовместимость, казалось бы, не оставляет ни малейшей щелочки для взаимопонимания – только непримиримая борьба без надежды на сближение и компромисс.
Маркс и Ницше вращаются в совершенно разных галактических мирах. Разделительная граница между ними прочерчивается их противоположным отношением к гегелевской диалектике «Раба» и «Господина», первотолчок к которой восходит еще к античности, ближайшим образом к Аристотелю. Как бы далеко Маркс ни выходил за рубежи, достигнутые Гегелем, он по существу исходит из этой диалектики, продолжает и развивает ее. Это имеет прямое отношение прежде всего к идее о человекотворческой и освободительной миссии труда, трудовой деятельности – идее, составившей целую эпоху в философии и гуманитаристике.
В отличие от Аристотеля, у которого раб и свободный – человеческие типы, существующие «по природе», Гегель полагает, что они результат того, что человек делает из себя сам. Первоначально господин и раб отличаются только одним: в борьбе за признание первый, чтобы отстоять свою свободу, рискует всем, вплоть до своей жизни;[48] второй, страшась смерти, ради сохранения жизни жертвует своей свободой и потому добровольно отдает себя в рабство другому. Раб принуждается к труду на господина. Но поскольку он реально изменяет мир своим трудом, а господин лишь потребляет созданное не им, то со временем они с необходимостью должны поменяться местами: труд оборачивается для раба самосозиданием, возвышая его от рабства к свободе; господин же коснеет в своей праздности и все больше зависит от труда своего раба. Своей самоотверженной борьбой за свободу господин стал катализатором истории, но делает историю, осуществляя реальные изменения в жизни, не он, а трудящийся. Господину нет нужды изменяться и становиться другим, раб же, напротив, не может смириться со своим положением, отрицает его и стремиться утвердиться в качестве свободного, созданного собственным трудом, человека. Праздность поглощает, губит господина. Труд же через долгие и сложные перипетии в конце концов принесет рабу освобождение. Вся история есть, таким образом, история освобождения раба от его рабской зависимости. И увенчивается она новым изданием борьбы – вновь не на жизнь, а на смерть, но на этот раз каждая из сторон рискнет пойти до конца – за признание человека свободным и упразднение самого отношения господства и рабства.[49]
Маркс подхватывает гегелевскую диалектику Борьбы и Труда, или Господства и Рабства. Он видит ее величие в понимании самопорождения человека как результата его собственного труда. В то же время следует четко зафиксировать ту грань, которая отделяет его подход от гегелевского. Ограничимся пока общей формулировкой: «Гегель стоит на точке зрения современной политической экономии. Он рассматривает труд как сущность, как подтверждающую себя сущность человека; он видит только положительную сторону труда, но не отрицательную».[50]
Точка зрения, на которой стоит Маркс, иная – это точка зрения критики политической экономии. Она выявляет не только положительную, но и отрицательную, отчуждающую сторону труда. Критика политической экономии исходит из того, что в современном, по-буржуазному цивилизованном обществе «труд уже стал свободным…; дело теперь не в том, чтобы освободить труд, а в том, чтобы этот свободный труд уничтожить».[51] Вполне возможно, что читатель, впервые столкнувшийся с такой формулировкой, будет немало ею озадачен и потребует разъяснений. А это сделать более или менее вразумительно невозможно, если не учесть, что: 1) в подлиннике значится «Aufhebung der Arbeit», и 2) «Aufhebung» в гегелевском диалектическом словаре значит не просто «уничтожение», а то, что на русский язык переводится как «снятие», т. е. одновременно «отрицание», «утверждение» и «возвышение». Тогда становится ясно, что имеется ввиду преодоление и превосхождение той отчужденной формы труда, в которой его сущность предстает не только с положительной, но и с отрицательной стороны.
Но, позволим себе попутный вопрос, почему же тогда без всяких оговорок принимается за чистую монету параллельное утверждение об «уничтожении частной собственности», которое без так называемого «уничтожения труда» остается не более чем ее опустошительным разрушением? Ведь здесь тоже имеется ввиду «Aufhebung», а это радикально меняет весь смысл. «Политическое аннулирование частной собственности, – отмечает Маркс на заре своей деятельности, – не только не упраздняет частной собственности, но даже предполагает ее».[52] И если Маркс действительно озабочен «снятием», т. е., на всякий случай напомним еще раз, одновременно «отрицанием», «утверждением» и «возвышением» частной собственности, то преодолению в ней действительно подлежит именно то, что «ставит всякого человека в такое положение, при котором он рассматривает другого человека не как осуществление своей свободы, а, наоборот, как ее предел».[53]
Отношение Ницше к диалектике раба и господина скорее деструктивно, нежели «деконструктивно». Ж. Батай даже склонен думать, что «Ницше не знал из Гегеля ничего, кроме распространенного переложения. „Генеалогия морали“ является своеобразным свидетельством невежества, с которым относились и относятся к диалектике господина и раба, ясность которой просто разительна (это решающий момент в истории самосознания, и… никто ничего не узнает о себе, если не схватит прежде всего этого движения, которое определяет и ограничивает череду возможностей человека)».[54]
Согласно Ж. Делезу, у Ницше было немало оснований для отказа ставить во главу исторического развития фигуру «раба» и задачу его освобождения. Если рабу и удастся навязать свою волю, одержать верх над господином и взять власть в свои руки, то одного этого еще недостаточно, чтобы перестать быть рабом и стать свободным. Воля к власти не как воля к творчеству, а как воля к безграничному властвованию, вожделение господства над другими является рабской волей. Именно так она понимается и применяется вчерашним рабом, когда он торжествует победу, завоевав свободу. Даже придя во власть, раб остается рабом и беспрепятственно возводит в абсолют свою разнузданную рабскую сущность. Абсолютное господство – изнанка абсолютного рабства. «Наши господа – всего лишь рабы, восторжествовавшие во всемирном поработительном становлении».[55]
Верно. Но не свободен ни раб, ставший господином, ни господин, ставший рабом воли к власти. Замечательное делезовское прочтение Ницше избирательно и современно. Оно, можно сказать, не по-ницшеански определенно, хотя, в согласии со временем, вполне оправданно смещает перспективу лишь в одну сторону, явно отдавая предпочтение интерпретации воли к власти как воли к творчеству. Между тем нельзя забывать и другой «перспективы», по отношению к которой утонченный артистический аристократизм Ницше неожиданно утрачивает столь дорогую ему музыкальность и не менее вдохновенно отдается эффекту оглушающего громыхания молота. (Кто со временем выскочил, как черт из табакерки, на политическую сцену «с философским молотом наперевес», вколачивая «гвозди в новый мировой порядок» – это общеизвестно, но если кому-то нужна подсказка или напоминание, советуем заглянуть в роман М. Брэдбери «Профессор Криминале».[56])
Образчиков подобного «философствования молотом» не счесть. Хотите знать, где искать новых философов в ницшевском вкусе? Ответ: «Только там, где господствует аристократический образ мысли, т. е. такой образ мысли, который верит в рабство и различные степени зависимости как основное условие высшей культуры».[57] (Курсив во втором случае наш. – А. М., А. Г.) Или еще: «Всякое возвышение типа „человек“ было до сих пор – и будет всегда – делом аристократического общества, как общества, которое верит в длинную лестницу рангов и в разноценность людей и которому в некотором смысле нужно рабство».[58]
Вы считаете, что «господство» и «рабство» не следует в данном контексте понимать как узко социальные или социологические термины, поскольку речь идет, скажем, о романтической структуре духа, о гениальном сознании?[59] Так-то оно так, но не нужно ли полностью оглохнуть, чтобы лишиться возможности услышать а/социальное звучание подобного «молотобойного» философствования? Разве это не так по отношению, скажем, к такой философеме: «Хорошая и здоровая аристократия» «со спокойной совестью принимает жертвы огромного количества людей, которые должны быть подавлены и принижены ради нее до степени людей неполных, до степени рабов и орудий. Ее основная вера должна заключаться именно в том, что общество имеет право на существование не для общества, а лишь как фундамент и помост, могущий служить подножием некоему виду избранных существ для выполнения их высшей задачи и вообще для высшего бытия».[60] Или – к такой: «Для того чтобы была широкая, глубокая и плодотворная почва для художественного развития, громадное большинство, находящееся в услужении у меньшинства… должно быть рабски подчинено жизненной нужде. За их счет, благодаря избытку их работы… привилегированный класс освобождается от борьбы за существование, чтобы породить и удовлетворить мир новых потребностей».[61]
Так и вертится на языке вопрос, не «начитался» ли Ницше Маркса? Во всяком случае социально-экономический базис господства «олигархов духа», касты праздных, вольных творцов, существующих за счет рабской зависимости касты работающих, трудящихся, им определяется вполне «по Марксу». Главное богатство, из-за которого в конце концов и идет нескончаемая борьба в истории, – это свободное время. Его счастливыми обладателями являются те, кто освобожден от необходимости труда по производству и воспроизводству (средств) своего существования. Вот почему в классово-антагонистическом обществе свободно-творческая деятельность как содержание свободного времени возможна лишь в форме присвоения прибавочного труда как содержания прибавочного времени. Похоже, что для Ницше, конечно, если не вдаваться в тонкости политико-экономической аргументации, это не составляло большого секрета. Вот только выводы он делает совсем другие, само собой разумеется, прямо противоположные марксовским: «…Мы должны, скрепя сердце, выставить жестоко звучащую истину, что рабство принадлежит к сущности культуры… Страдание и без того уже тяжко живущих людей должно быть еще усилено, чтобы сделать возможным созидание художественного мира небольшому числу олимпийцев».[62]
Ницше настолько убежден, что «рабство принадлежит к сущности культуры», что устранение рабства для него равносильно гибели культуры: «И если верно, что греки погибли от рабства, еще вернее, что мы погибнем вследствие отсутствия рабства».[63] Любые движения за освобождение от рабства расцениваются им как гибельные для культуры.
В той мере, в какой ницшеанская свобода, в отличие от марксовской, прямо исключает свободу другого, она – в выше разъясненном смысле – неблагодарна, безблагодатна и даже не столь уж благородна, если верить такому отечественному аристократу духа, впрочем, прошедшему в молодости школу Маркса, как Н. А. Бердяев. Само притязание на господство над другими людьми, презрение к народу, массе, слабым, вынужденным добывать хлеб свой насущный в поте лица своего, вовсе и не свойственно настоящему духовному благородству, как думал, или, вернее сказать, вынужден был «ради красного словца» говорить – против самого себя – Ницше. Скорее, в этой вызывающей своим нарочито-игривым имморализмом и асоциальностью «перспективе-маске» просматриваются остаточные проявления рабьей воли, плебейства, поскольку «господин знает лишь высоту, на которую его возносят рабы»[64] – так Бердяев переформулирует одно из следствий великой гегелевской диалектики «господина и раба». Тем самым древняя платоновская классика: «Самое тяжкое и горькое рабство – рабство у рабов»,[65] спустя тысячелетия, дополняется новой коннотацией: «Страшнее всего раб, ставший господином».[66] Согласно горькой иронии Ж. Лакана, в отличие от платоновского Сократа, который «обращается к подлинным господам», мы имеем дело поголовно с «рабами, которые принимают себя за господ».[67] Как это ни обидно сознавать, именно «поголовно», и, пожалуй, не столько в сугубо количественном отношении, сколько в качественном, типологическом, социокультурном.
Итак, очень важно среди «рабов, принимающих себя за господ», различать «рабов, видящих или мнящих себя господами», и «господ, не видящих или не распознающих в себе рабов». Ведь XX век прошел под знаком этой многократно двоящейся и в своей амбивалентности бесконечно тиражирующейся «превращенной формы», олицетворенной монструозной фигурой «раба-господина» или, если угодно, «господина Раба». «Внешний раб» как воплощение экстериоризованного рабства схлестнулся в смертельной схватке с «рабом внутренним» как воплощением интериоризованного рабства. Раб, изнутри владычествующий над господином и отравляющий его душу своей рабьей волей, он же – господин, остающийся рабом по своей внутренней сущности, противостоял и все еще продолжает противостоять собственному двойнику – рабу, вознамерившемуся освободиться, избавившись лишь от внешнего рабства, т. е. устранив своего господина и заняв его господское место.
Перебирая всевозможные отвратительные «обличья» и «маски», персонажи которых взаимно провоцируют друг друга на кроваво-душераздирающие сцены «перекрестно» распределяемого господствования/порабощения, «раб-господин» наглядно-катастрофическим и потому – для способных видеть – исчерпывающим образом продемонстрировал бесперспективность и губительность свободы как эпифеномена рабства. Конечно, и далее, как показал конец прошлого столетия, отнюдь не исключаются новые ужасающие гримасы «господина Раба», еще более остро разоблачающие рабскую природу самого феномена господства как такового. Но и без того уже ясно, что господство далеко еще не свобода, а лишь ее отчуждающее и порабощающее присвоение, как и то, что свобода лежит вне плоскости отношений «господство» – «зависимость» и предполагает освобождение как от рабов, так и от господ, от самой их коррелятивности. И эта ясность впервые приобрела теоретическую форму благодаря Марксу.
Однако не правы ли Маркс и Ницше, каждый по-своему и вопреки другому, в чем-то таком, что существенно корректирует и дополняет их столь разные позиции? Быть может, они в состоянии сказать друг другу и, вместе с тем, нам нечто весьма важное и значительное, если мы откажемся подводить их под общий знаменатель и признаем правомерную несоизмеримость их подходов? По мнению Р. Рорти, Маркс и Ницше, вернее, артикулируемые первым общественная справедливость и солидарность, а вторым – личностное самосозидание и совершенство, так же мало нуждаются в синтезе, как, например, малярная кисть и лом. «Обе стороны правы, но нет никакой возможности заставить их говорить на одном языке».[68] Да и нет в этом особой нужды, ибо именно их разноязыкость постоянно поддерживает и пролонгирует открытое обсуждение без претензии на его увенчание нивелирующе-общеобязательной истиной для всех.
В этом отношении Ницше может дополнить Маркса акцентированным истолкованием свободы как индивидуального самоосвобождения. Без вкуса и готовности к внутренней свободе внешнее освобождение оборачивается новым рабством. Грозным предостережением звучат слова
Ницше о страшной опасности безоглядного предоставления, нет, лучше сказать: взвешивания свободы на тех, кому не по плечу ее бремя. «Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты сбросил ярмо с себя. Из тех ли ты, что имеют право сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства. Свободный от чего?…Твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?»[69]
Этому предостережению прошедший век не внял, что повлекло за собой невиданные кровавые трагедии. Достаточное ли это основание, чтобы требование всеобщего освобождения было снято с повестки дня? Или дело в другом – в еще более настоятельной необходимости превращения самого процесса освобождения в самоосвобождение?
Еще раз предоставим слово Р. Рорти: «Марксизм был предметом зависти всех последующих интеллектуальных движений, поскольку некоторое время казалось, что он показывает, как синтезировать самосозидание и социальную ответственность, языческий героизм и христианскую любовь, отрешенность созерцателя и запал революционера… Я считаю, что эти противоположности могут быть соединены в жизни, но не в теории. Нужно прекратить искать преемника марксизму…»[70] Если имеется в виду теория, которая освобождает нас от индивидуального поиска сочетания этих противоположностей, то с этим суждением стоит согласиться. Но вряд ли Маркс был столь девственно безапелляционным в своем подходе к этой проблеме. Да и помнится, Рорти сам говорил, что обе стороны правы, нет только нужды подводить их под общий знаменатель.
ПОЧЕМУ «КНИГА ВСЕЙ ЖИЗНИ» МАРКСА ОСТАЛАСЬ НЕЗАВЕРШЕННОЙ?
«“Капитал” представляет собой начинание грандиозное и – я придаю словам точный смысл – гениальное».
Р. АронМарксу не грозит ослабление интереса, по крайней мере, до тех пор, пока люди будут стоять перед проблемой, как совместить (материальное, социально-экономическое) освобождение и (духовно-творческое, индивидуальное) самоосвобождение. Не взаимопротивопоставление или взаимоисключение «хлеба» и «свободы», а именно взаимополагание и взаимодополнение их друг другом – таков исходный пункт его поисков. «Людям предлагают или свободу без хлеба, или хлеб без свободы. Сочетание же хлеба и свободы есть самое трудное задание и высшая правда».[71]
Это самое трудное задание и высшую правду Маркс осмысливает преимущественно со стороны движения от (материально-практического) освобождения к свободе как (практически-духовному) самоосвобождению.
Вот таким общим ракурсом определен замысел основного труда всей жизни К. Маркса под названием…? «Капитал»? Разумеется, «да», но в то же время с некоторым требующим пояснения «нет». Как известно, «Капитал» имеет уточняющий подзаголовок «Критика политической экономии». С учетом этого, а также того, что самим Марксом был опубликован только первый том «Капитала», а о всем замысле, а также масштабах и, главное, процессе его воплощения можно судить по оставшимся необъятным рукописям, Марксов opus magnus приобретает иную конфигурацию, определяемую выдвижением подзаголовка «Критика политической экономии» на передний план в качестве более адекватного выражения всего задуманного исследования.
Обращение Маркса к критике политической экономии, – подчеркнем особо, критики соответствующей науки в единстве с предметом ее рефлексии, т. е. общества политической экономии – датируется 1843–1844 годами.
В свои студенческие годы, занимаясь юриспруденцией, историей и в особенности философией, юный Маркс не проявил сколько-нибудь заметного интереса к политической экономии. Будучи редактором «Рейнской газеты», он должен был определиться относительно конкретных столкновений материальных интересов, за которыми по существу стоял институт собственности. Чтобы выработать собственный взгляд, Маркс предпринимает критический разбор гегелевской философии права, в результате которого он установил, что «правовые отношения, так же точно как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру английских и французских писателей XVIII века, называет “гражданским обществом, и что анатомию гражданского общества следует искать в политической экономии”[72]». Так открытие первоначальной идеи материалистического понимания истории указало Марксу путь к политической экономии и через посредство ее критики – к выявлению пределов существования и, одновременно, прохождения ее предмета – капиталистического общества. Уже в «Парижских рукописях 1844 года» предполагалось раскрыть «связь политической экономии с государством, правом, моралью, гражданской жизнью и т. д.» «лишь постольку, поскольку этих предметов ex professo касается сама политическая экономия».[73] Логично признать, что Рукописями 1844 года открывается замысел «Критики политической экономии» как труда всей жизни Маркса.[74]
Вынужденно оставляя «за кадром» дальнейшие исторические вехи становления и многократного уточнения общего исследовательского замысла Маркса, ход и трудности его реализации, формирование структуры его изложения, отметим, что в настоящее время уже стало широко признанным фактом различение «Капитала» в собственном, если хотите, узком смысле слова и в широком – как совокупного марксового критического исследования капиталистического способа производства. В первом случае имеется в виду прежде всего, конечно, первый том «Капитала», изданный самим автором в 1867 году, а также не доведенные до завершения и подготовленные к печати уже после смерти Маркса, на основе его рукописного наследия – второй и третий тома – Ф. Энгельсом и четвертый том («Теории прибавочной стоимости») К. Каутским. «Капитал» в широком смысле слова – это вся марксова «Критика политической экономии», включающая и работы, выполненные «на пути к собственно “Капиталу”», и обширнейшие рукописи, в особенности 1857–1858, 1861–1863, 1863–1864 гг., не только служащие подготовительными, черновыми вариантами различных томов собственно «Капитала», но и безусловно имеющие самостоятельное, далеко еще не в полной мере постигнутое значение.
Тем не менее, при всей громадности сделанного, оно все же весьма далеко от завершения задуманного. «Критика политической экономии» осталась в пределах абстракции «чистого капитализма», т. е. на самом высоком уровне теоретической идеализации капиталистического способа производства. «План шести книг», предполагавший выход теоретического движения от производственных отношений к социально-классовой структуре и государственно-политической сфере, а также анализ «обращения капитализма во вне себя», Маркс был вынужден отложить. Этот виток восхождения на новый уровень «конкретного анализа конкретного предмета» можно было осуществить только после разработки серии специальных теорий производственных отношений (в частности, стоимости, конкуренции как подчиняющихся своей собственной логике движения, а не только общему закону прибавочной стоимости). Третий том «Капитала» оборвался наброском 52 главы под названием «Классы». Это значит, что специальной теории классов и классовых отношений (борьбы) Маркс не оставил. Но главное, что касается незавершенности научного замысла Маркса, и, пожалуй, решающее для выхода в непосредственную практику революционного движения – это то, что отношение «капиталистический центр» – «не/до-капиталистическая периферия» не стало предметом сколько-нибудь специального исследования. Отсюда и известная аберрация исторической перспективы, переоценка степени зрелости капитализма, выпрямление пути к новому обществу.
Грандиозность, невыполнимость лишь собственными силами гигантского начинания постоянно тяготила Маркса, угнетала, давила, нервировала, превращала его титанические усилия отчасти в сизифов труд. Подумать только, за три года до смерти, по свидетельству К. Каутского, на предложение издать собрание его сочинений К. Маркс с горечью заметил: «Сначала их нужно еще написать».
«ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ» ИЛИ «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»?
«…Только анализ процесса производства может дать утвердительный или отрицательный ответ на вопрос о том, может ли… общество когда-либо исполнить свое обещание и дать индивидуальную свободу в пределах рационального целого».
Г. МаркузеКритику политической экономии в «Капитале» Маркс начинает анализом товара как элементарной формы («клеточки») богатства общества, в котором господствует капиталистический способ производства. Хотя товар не лишен естественных характеристик, он по своей сути является социальной вещью, обладающей двумя обязательными свойствами: потребительной стоимостью – способностью удовлетворять какую-либо потребность человека, а также меновой стоимостью – способностью в определенных пропорциях обмениваться на другие товары.
Обмен всей необозримой массы товаров в конечном счете тяготеет к соответствию средним, общественно-необходимым по времени, т. е. стоимостным затратам труда, воплощенного в каждом из товаров. Поэтому стоимость, определяющая общую тенденцию экономического движения товаров, – не вещь, а общественное отношение по поводу социально значимых вещей.
Судьба товара зависит от его стоимости, но последняя не имеет ничего общего с его предметностью, в ней нет ни толики вещества природы, она имеет чисто общественный характер. Как общественное отношение стоимость придает товару – дополнительно к его привычной, чувственно-воспринимаемой природе – еще и вторую, чувственным созерцанием не фиксируемую и, в этом смысле, сверхчувственную природу.