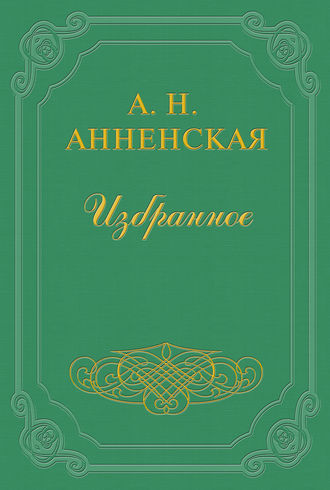 полная версия
полная версияБрат и сестра

Александра Никитична Анненская
Брат и сестра
Глава I
Сироты
В один пасмурный октябрьский день около свежей, только что зарытой могилы на Смоленском кладбище стояло двое детей – мальчик и девочка. Девочка опустилась на колени и, припав лицом к земле, громко рыдала. Мальчик с каким-то не то страхом, не то недоумением оглядывался кругом, и крупные слезы медленно текли по его бледному личику. К детям быстрыми шагами подошел высокий, толстый господин и, положив руку на плечо мальчика, проговорил далеко не ласковым голосом:
– Ну, полно плакать, ведь слезами все равно не воскресите мертвой, надобно скорей ехать, поезд отъезжает через три четверти часа! Маша, вставай!
Он взял за руку мальчика и, не взглянув даже, следует ли за ним девочка, быстрыми шагами направился к выходу с кладбища. Маша поднялась с колен, простояла несколько секунд неподвижно перед могилой, как бы не имея сил оторваться от нее, и затем, заметив, что спутники ее уже далеко, побежала догонять их.
Мужчина усадил детей в карету, ожидавшую их у входа кладбища, и, приказав кучеру ехать как можно скорее, сам уселся подле них.
– Дядя, разве мы не заедем к нам на квартиру? – несмелым голосом спросила девочка.
– Конечно нет, – отвечал мужчина. – Ты думаешь, мне есть время возиться тут с вами! И так уж целую неделю прожил задаром в Петербурге! Что вам там делать на квартире? Все вещи убраны, чемоданы ваши сданы в багаж, а остальное я поручил продать.
После этих слов, произнесенных голосом, не выражавшим желания продолжать разговор, в карете воцарилось молчание. Лошади неслись быстро и скоро остановились у вокзала Николаевской железной дороги. До отхода поезда оставалось всего пять минут. Мужчина поспешно взял билеты, втолкнул детей в один из вагонов третьего класса, а сам направился ко второму классу. Дети уселись рядом в уголку. Поезд тронулся. Девочка огляделась: кругом все были люди незнакомые, занятые своими делами и не обращавшие на детей ни малейшего внимания.
– Как я рада, что он не сел с нами! – проговорила она со вздохом облегчения. – Он ужасно гадкий! Правда ведь, Федя?
– Хорошо еще, что он богатый! – отвечал мальчик. – Няня рассказывала, что у него есть свой большой дом и свои лошади. Ты думаешь, он мне позволит покататься на его лошадке, Маша?
– Не знаю; все равно он злой. Он не плакал о мамаше. Я его не люблю.
– Не говори так громко, Маша, – предостерег мальчик, робко озираясь кругом, – он, пожалуй, услышит и рассердится.
– Пусть себе сердится! – вскричала девочка. – Если бы мама знала, какой он, она не отдала бы нас ему!
Девочка закрыла лицо руками и заплакала.
– Маша, не плачь, милая, – проговорил мальчик, ласкаясь к сестре. – Ведь мама не велела нам плакать, ты помнишь? Разве ты хочешь не слушаться мамы?
Маша вытерла лицо и сделала над собой усилие, чтобы удержать слезы.
– Федя, – сказала она через несколько секунд молчания, взяв брата за руку, – а ты помнишь, что еще велела нам мама?
– Помню, – отвечал мальчик. – Она велела нам любить друг друга. Я тебя очень люблю, Маша.
– И я тебя тоже. Я тебя всегда любила, а теперь буду любить еще больше. Я ведь старше тебя, мне уже одиннадцать лет, а тебе еще нет десяти, я буду заботиться о тебе и никому не позволю обижать тебя, никому!
Мальчик положил голову на плечо сестры и прижался к ней, как бы отдаваясь под ее защиту, она же обняла его и посмотрела на него с видом нежного покровительства.
Маша и Федя Гурьевы лишились отца, когда были совсем крохотными детьми. До сих пор им ни разу не приходилось оплакивать эту потерю, благодаря нежной заботливости, с какой воспитывала их мать. Небольшое состояние, оставленное ей мужем, позволило Вере Ивановне Гурьевой окружить детей если не богатством, то полным довольствием и удовлетворять все их умеренные желания. Не зная нужды, всегда окруженные предусмотрительною, заботливою любовью матери, дети жили вполне счастливо, как вдруг их поразило совершенно неожиданное горе. В один холодный весенний день Вере Ивановне пришлось ехать по делам за город, она простудилась и заболела. Сначала болезнь не представляла ничего серьезного, так что она не обратила на нее внимания, продолжала выезжать и заниматься детьми как ни в чем не бывало. Это, конечно, усилило нездоровье, и, когда дней через десять она слегла в постель, приглашенный доктор прямо объявил, что болезнь очень серьезна. Дети сильно огорчились нездоровьем матери, ухаживали за ней насколько могли, старались как можно меньше беспокоить ее, но мысль об опасности вовсе не приходила им в голову. Через месяц Вере Ивановне сделалось, по-видимому, лучше. Она встала с постели и начала даже понемножку приниматься за хозяйство и за занятия с детьми. Доктор советовал больной немедленно отправиться куда-нибудь на юг, но она и слышать об этом не хотела.
– Я теперь совсем здорова, только немножко слаба, – говорила она тихим, прерывающимся голосом, – вот перееду на дачу, так там поправлюсь.
Но дача принесла ей мало пользы. Летом она еще держалась кое-как на ногах, а в сентябре месяце окончательно слегла в постель. Чувствуя приближение смерти, она написала в Р* к брату своего мужа, единственному близкому родственнику детей, прося его приехать и принять участие в судьбе бедных сирот. Григорий Матвеевич отвечал, что не замедлит приехать, как только позволят дела, и приехал за два дня до смерти невестки. Тяжело было Вере Ивановне прощаться с жизнью, невыносимо тяжело расставаться с нежно любимыми детьми! Она почти не знала брата своего мужа, но с первого взгляда на его жесткое лицо, при первых звуках его грубого, резкого голоса она почувствовала, что он не в состоянии заменить отца сиротам.
– Будьте добры к ним, – умоляла она его, сжимая своими бледными, исхудавшими пальцами его широкую мускулистую руку. – У вас ведь есть свои дети… их отец был вашим братом… в память о нем не оставьте его сирот!
– Да полноте, что вы волнуетесь, – отвечал Григорий Матвеевич, – с чего вы умирать-то вздумали? Небось выздоровеете, сами их вырастите, ну, а коли что случится, конечно, ведь не злодей же я, не брошу их.
«Может быть, он добрее, чем кажется», – со вздохом думала больная, и эта мысль усладила ей последние минуты жизни.
Во время своей болезни Вера Ивановна несколько раз принималась заговаривать с детьми о своей смерти и старалась приготовить их к разлуке.
– Скоро меня не станет, милые мои, – говорила она им, – вы останетесь на свете сиротами, без отца и без матери. Любите друг друга как можно сильнее, старайтесь во всем помогать друг другу, поддерживать один другого… Маша, ты старше, заботься о брате, пока он маленький, а ты, Федя, будешь мужчиной, будешь сильнее сестры, ты и теперь благоразумнее ее, защищай ее… не давайте друг друга в обиду злым людям.
– Мама, мама, не говори так, – рыдала Маша, прислонившись головой к подушке матери. – Ты не умрешь, а если ты умрешь, то и я умру с тобой.
– Зачем даваться в обиду, – рассуждал Федя в ответ на слова матери, – меня никто не обидит: я маленький, я никому не делаю зла.
Несмотря на то что в последние недели своей жизни Вера Ивановна не раз заводила с детьми подобные разговоры, смерть ее показалась им чем-то невероятным, неожиданным. Они со страхом поглядывали на бледный, холодный труп, лежавший на большом столе среди столовой, и не узнавали на безжизненном лице покойницы черт своей милой, дорогой матери. Все, что делалось вокруг них, казалось им каким-то тяжелым сном. Дядю они почти не видали; он заходил к ним на несколько минут, отдавал приказания прислуге и опять уходил, почти не обращая внимания на племянников. Накануне похорон он сказал им:
– Завтра я вернусь домой, и вы поедете со мной. Я велел горничной уложить ваши вещи; пожалуйста, не тащите с собой разной дряни, у меня и без вас много хламу в доме.
Детям хотелось узнать подробнее о том, куда именно и как они поедут, но дядя отвернулся и ушел прочь, не отвечая на их вопросы.
Мы видели, что и после похорон их матери он обращался с ними не более ласково, так что Маша имела право считать его недобрым и жалеть о том, что мать поручила ее и Федю именно ему.
Путешествие по железной дороге развлекало детей и заставляло их по временам забывать о своем горе. На станциях, где были большие остановки поезда, дядя подходил к ним, провожал их в буфет, давал им есть и пить и затем снова усаживал их в вагон, не говоря с ними ничего, кроме самого необходимого. Когда настала ночь, детям стало страшно в плохо освещенном вагоне, сон клонил их, а между тем они не могли заснуть, сидя на жестких деревянных скамейках и слыша вокруг себя беспрерывные разговоры соседей.
– Как здесь гадко, Маша, – жаловался Федя. – Я хочу спать, а мне не на что положить голову!
– Положи ее ко мне на плечо, голубчик, – предложила Маша, – может быть, так ты заснешь.
– А ты, Маша?
– Я все равно не буду спать. Мне так страшно и так грустно!
Федя положил голову на плечо сестры и скоро заснул крепким сном, но Маша не спала. Горькие, печальные мысли проносились в голове девочки. То вспоминалась ей счастливая жизнь с матерью, то думалось о той судьбе, какая ждет ее в доме сурового дяди. Маша знала, что у этого дяди была жена и дети, но не имела никакого понятия о том, каковы они.
«У такого злого человека и вся семья должна быть злая!» – говорила она сама себе. В памяти ее проносились все, когда-нибудь читанные ею сказки о злых тетках, преследовавших несчастных племянниц, и она дрожала при мысли о бедствиях, ожидавших ее и ее брата.
Весь следующий день дети провели в дороге и только поздно вечером приехали в Р*. Путешествие до того утомило их, что они оба едва держались на ногах, и Григорий Матвеевич принужден был за руку подвести их к карете, ожидавшей их у дебаркадера. Через четверть часа езды по отвратительной мостовой карета остановилась у подъезда небольшого двухэтажного каменного дома. Выбежавший слуга отворил дверцы экипажа, подобострастно приложился губами к руке Григория Матвеевича и помог ему вылезть из кареты, льстиво приговаривая: Слава тебе господи, наконец-то вы пожаловали, батюшка.
В дверях дома показалась со свечой в руке толстая, румяная горничная, которая точно так же почтительно поцеловала руку барина, и не успел Григорий Матвеевич пройти первых пяти ступеней широкой лестницы, как навстречу ему бросилась высокая худощавая женщина с темными локончиками, очень некрасиво обрамлявшими ее желтые, впалые щеки.
– Братец, голубчик, – заговорила она сладеньким голосом, – как я рада! Уж мы без вас совсем соскучились.
Григорий Матвеевич пожал руку сестры, вовсе не показывая, что ее любезный прием сколько-нибудь тронул его.
– А где же дети и Анна Михайловна? – спросил он, поднимаясь дальше по лестнице.
– Деточки спят, Анна Михайловна не позволила им дожидаться вас; Володенька очень просился, хотел вас встретить, и я говорила, как же не дать ребенку повидаться с отцом: ведь шутка сказать, больше недели не виделись, ну, Анна Михайловна, конечно, на своем поставила; она и сама, кажись, спала, не знаю, может, теперь встала.
В просторной передней лакей и горничная бросились снимать с Григория Матвеевича пальто, калоши, кашне и даже перчатки, и затем он, в сопровождении сестрицы в локончиках, вошел в ярко освещенную столовую, среди которой стоял большой стол, накрытый для чая и ужина. У окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, стояла еще молодая женщина, маленького роста, худощавая, с бледным, болезненным лицом. Услыша шум отворившейся двери, она слегка вздрогнула, быстрыми шагами пошла навстречу вновь прибывшего и протянула ему руку, стараясь вызвать на лице своем ласковую улыбку. Григорий Матвеевич слегка коснулся губами ее лба и проговорил сквозь зубы:
– Ишь, встретить даже не могла! – и затем обратился к двери, в которую вошли в эту минуту сироты, робко пробиравшиеся вслед за ним. – Вот, – сказал он, указывая на них сестре и жене, – гостей вам привез, радуйтесь, своих ребят мало.
– Это дети Сергея Михайловича? – спросила сестра.
– А то чьи же? Их маменька изволила назначить меня их опекуном, есть что опекать! И состоянья-то всего на башмаки им не хватит! Вот я и возись теперь с ними!
– Бедные малютки, – проговорила Анна Михайловна и, подойдя к детям, крепко поцеловала их обоих.
Эта ласка, первая в чужом доме, до того тронула Машу, что она готова была броситься на шею тетки и выплакать свое горе на груди ее, но ее остановил суровый голос дяди.
– Что же это ты, матушка, с ума сошла, что ли! – закричал он на жену. – Будешь тут с ребятами возиться, а мужу с дороги и поесть нечего!
– Сейчас, сейчас, братец, – вмешалась девица в локонах. – Я велю вам подать закуску, не извольте сердиться, все будет в одну минуту. – И она чуть не бегом вышла из комнаты, между тем как Анна Михайловна принялась переставлять на столе посуду, – видимо, для того только, чтобы показать, что и она хлопочет.
Через несколько секунд лакей внес в комнату большой шипящий самовар, за ним появилась горничная, неся в руках огромный поднос, уставленный всевозможными закусками, а сзади нее выступала сестра с двумя бутылками водки.
– Кушайте, братец, – обратилась она к Григорию Матвеевичу. – Я нарочно велела приготовить вам поросеночка со сметаной, вы ведь любите, а вот цыплятки жареные. Выкушайте сперва рюмочку померанцевой, с дороги это вас подкрепит.
– Спасибо, спасибо, хоть ты обо мне позаботишься. Григорий Матвеевич выпил рюмку водки, уселся к столу и принялся есть с величайшим аппетитом. Сестра сидела рядом с ним, угощала его и старалась всячески услужить ему. Анна Михайловна заваривала чай. На детей никто не обращал внимания, они стояли в дверях комнаты, усталые, голодные, несчастные. Первая вспомнила о них Анна Михайловна.
– Надобно бы дать и детям поесть, они, я думаю, проголодались с дороги, – заметила она несмелым голосом.
– Так что же ты смотришь, – отозвался Григорий Матвеевич, – покорми их.
Анна Михайловна ласково усадила детей подле себя, дала им жаркого, хлеба с маслом и чаю. Бедняжки были до того утомлены, что с трудом глотали куски.
– А куда ты их уложишь сегодня? – спросил Григорий Матвеевич, удовлетворив свой аппетит и принимаясь за чай.
– Уж я, право, не знаю, – ответила Анна Михайловна. – В детской тесно, внизу не топлено… Вот если бы Глафира Петровна позволила им переночевать у себя в кабинете…
– Помилуйте, как же я могу не позволить, – с притворным смирением отвечала Глафира Петровна. – Ведь вы в доме хозяйка, вы, может быть, прикажете мне отдать деточкам свою постель, а самой лечь на полу, так я и это могу, только…
– Полно вздор болтать, – прервал ее Григорий Матвеевич. – Никто не просит тебя ложиться на полу, спи себе на своей кровати, а от комнаты твоей не убудет, если дети переночуют там раз. Им можно постлать перину на пол, они всячески заснут. Распорядись, Анна!
Анна Михайловна вышла из комнаты и через несколько минут вернулась за детьми. Ни Маша, ни Федя не помнили, как тетка подвела их проститься с дядей, как она проводила их в предназначенную им спальню, сама раздела и уложила их на большую перину, постланную для них в одном из углов комнаты Глафиры Петровны. Сон одолел их, и этот благодетельный сон скоро заставил их забыть и усталость, и все пережитые неприятности, и страх за будущее.
Глава II
Первый день в новой семье
На другой день детей разбудила горничная.
– Вставайте, господа, поскорее, Глафира Петровна и без того сердится, что вы их комнату заняли, – сказала она, слегка расталкивая спавших.
Дети вскочили так быстро, как никогда не вскакивали в доме матери, и поспешили одеться с помощью услужливой горничной; они были почти совсем готовы, когда в комнату вошла Анна Михайловна.
– Ну что, хорошо ли вы спали, голубчики? – спросила она, целуя детей еще ласковее, чем накануне. Они отвечали ей, что спали как убитые. – А что, Дуняша, – обратилась она к горничной. – Ведь надо бы дать им чего-нибудь покушать, они, я думаю, голодны, до обеда-то долго ждать.
– Уж я, право, не знаю, – отозвалась Дуняша. – Надобно спросить у Глафиры Петровны.
– Ах, нет… как тут быть?.. от детского чаю ничего не осталось?
– Помилуйте, сударыня, да что же там может остаться, ведь вы сами знаете, сколько им дают.
По лицу Анны Михайловны видно было, что она очень хорошо знала, и сделала свой вопрос только для того, чтобы что-нибудь сказать.
– Послушай, Дуняша, – обратилась она к горничной шепотом. – Сходи-ка ты к Глафире Петровне, попроси ее, скажи, что ведь нельзя же морить голодом чужих детей, пусть даст чего-нибудь… Ты принеси ко мне в комнату, я их туда возьму!
Маша и Федя слышали весь этот разговор от слова до слова, и, конечно, он не мог привести их в хорошее расположение духа. Маша готова была отказаться от завтрака, который приходилось выпрашивать с таким трудом, но голод начинал сильно мучить бедную девочку, почти ничего не евшую за ужином.
Анна Михайловна привела детей в свою комнату, одна половина которой, отделенная шерстяной драпировкой, служила спальней, а другая представляла что-то вроде не то уборной, не то маленькой гостиной и была уставлена самой разнообразной мебелью. Едва дети успели усесться на низенький диванчик подле тетки и ответить на несколько вопросов ее о их прежней жизни, как в комнату вошла Дуняша, неся в руках две чашки теплой воды, слегка разбавленной чаем, почти без сахара и два тоненьких ломтика булки. Анна Михайловна, не ожидавшая, что ее племянники получат даже такой скудный завтрак, видимо, очень обрадовалась; но дети, привыкшие дома к другого рода пище, вовсе не разделяли ее радости, хотя из деликатности не сказали, что им хотелось бы чего-нибудь посытнее и повкуснее.
– Ну, теперь, – сказала Анна Михайловна, когда они выпили чай и Дуняша унесла пустые чашки, – я вас сведу в детскую, вы там познакомитесь с моими детьми.
Детская была маленькая комнатка, помещавшаяся рядом с кухней, на конце длинного коридора. В ней стояли три кровати, большой комод, платяной шкаф, длинный стол, и все эти вещи до того загромождали всю комнату, что в середине ее не оставалось и двух квадратных аршин пустого пространства. При входе детей им представилась сцена еще менее привлекательная, чем то место, где она происходила. Два мальчика лет десяти и двенадцати дрались самым отчаянным образом, нанося друг другу удары по чем попало. Маленькая девочка лет шести, вероятно перепуганная этою дракою, влезла на кровать и громко плакала.
– Боже мой, дети, вы опять деретесь! – вскричала Анна Михайловна, бросаясь к мальчикам. – Как вам не стыдно! Володя, перестань! Лева, оставь его!
Но дети, не обращая внимания на увещания матери, продолжали колотить друг друга. Вдруг старший, собравшись с силами, толкнул брата, и тот упал на пол, стукнувшись головой об стол.
– Господи, ведь ты этак убить его можешь! – закричала Анна Михайловна, бросаясь к младшему сыну. Она подняла его, прижала к груди своей и с ужасом смотрела на огромное красное пятно на его лбу.
– А он сам зачем меня всегда задевает, – отозвался старший мальчик, – вон он как мне исцарапал руку! – И он показал матери широкую царапину, из которой еще слегка сочилась кровь.
– Так ведь ты старший, тебе бы надо учить его, останавливать, а ты сам хуже его.
– Нет, неправда, не хуже! Вы так говорите потому, что он ваш любимец, а вот я папе пожалуюсь, как он меня исцарапал.
– И не так еще исцарапаю, – злым голосом проговорил младший мальчик, вырываясь из рук матери. – Я тебя когда-нибудь до смерти изобью!
– А я и это скажу папе!
Младший мальчик уже сжал кулаки и собирался с новой яростью накинуться на брата, но в эту минуту в комнату вошла Глафира Петровна.
– Что же вы, Анна Михайловна, – обратилась она к невестке. – Здесь глупостями занимаетесь, а там братец сердится, что дети не идут к нему.
– Слышите, дети, пойдемте же к папе, – сказала Анна Михайловна, обрадовавшись, что хоть таким образом драка детей на время прекратится. Она взяла на руки маленькую девочку, успокоившуюся несколько по приходе матери; впереди всех побежал старший мальчик, за ним неохотно последовали Маша и Федя, а сзади всех остался младший мальчик.
Григорий Матвеевич только что встал с постели, хотя уже был двенадцатый час утра, и сидел в столовой, угощаясь кофе и сытным завтраком. Он казался в хорошем расположении духа и, завидев детей, ласково сказал им:
– А, здорово, ребятки, наконец-то вы пришли повидаться с отцом!
– Папа! – закричал Володя, первый подбегая к отцу. – Посмотри, как Левка исцарапал меня! – И он протянул отцу свою исцарапанную руку.
Брови Григория Матвеевича нахмурились.
– Ты опять буянишь, волчонок, – произнес он строгим голосом, обращаясь к младшему сыну, – иди сюда!
Мальчик подошел на несколько шагов; он стоял, опустив голову и смотря на отца исподлобья злым, сердитым взглядом.
– Волчонок, как есть волчонок! – сквозь зубы проворчал Григорий Матвеевич и затем закричал, грозно топнув ногой: – Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю, негодяй, подними голову!
Лева не шевельнулся.
– Подними же голову, говорят тебе!
Он схватил мальчика за волосы и насильно поднял ему голову. Лева опустил глаза, и по упрямому выражению его лица видно было, что его ничем не заставить взглянуть на отца. Григорий Матвеевич понял это.
– Пошел вон с глаз моих, – закричал он, – не смей показываться мне, упрямый негодяй! – Он толкнул мальчика к дверям так сильно, что тот едва устоял на ногах, и затем, обращаясь к Анне Михайловне, проговорил злобным голосом: – Хорош твой любимчик, нечего сказать!
Анна Михайловна смотрела на всю эту сцену с выражением страха и беспокойства. Она не сказала ни слова на замечание мужа, только тяжело вздохнула и украдкой оттерла слезу, навернувшуюся на глазах ее.
– А ты что же не здороваешься с отцом? – обратился Григорий Матвеевич к своей маленькой дочери, которая, напуганная его гневом, спрятала голову в складки платья матери.
– Иди, Любочка, не бойся! – сказала Анна Михайловна, подводя к мужу девочку.
– Дура! Отца родного боится! – заметил Григорий Матвеевич, сунув дочери руку для поцелуя.
Затем пришла очередь Маши и Феди. Им также дядя сунул руку для поцелуя, и они должны были приложиться губами к этой руке. Маша с трудом скрывала свое отвращение, а Федя, напуганный всем предыдущим, постарался произнести самым почтительным голосом:
– Здравствуйте-с, дяденька-с! – за что был награжден благосклонной улыбкой Григория Матвеевича.
После этой церемонии детям приказано было вернуться в детскую. Левы там не было, и никто не заботился о том, куда девался мальчик, выгнанный из комнаты отцом. Володя и Любочка с любопытством разглядывали своих незнакомых родственников.
– Вы те папины племянники, у которых мать была больна и к которым ездил папа? – спросил Володя.
– Да, те, – отвечала Маша.
– Что же, вы навсегда у нас будете жить?
– Должно быть, навсегда.
– А, ну, я этому рад! Будем вместе играть, а то мне не с кем. Люба маленькая, а Левка такой злой, все дерется!
– Ты сам злой, – серьезным голосом произнесла Маша. – Зачем ты пожаловался отцу на младшего брата? Ведь ты же и сам бил его! Я не буду играть с тобой!
Володя с удивлением посмотрел на свою двоюродную сестру. Он, видимо, вовсе не ожидал с ее стороны такого ответа.
– А ты также не будешь играть со мной? – обратился он к Феде.
– Нет, отчего же? Я буду! – отвечал Федя, боявшийся всех и всего в этом доме.
– Ну, вот и отлично! – обрадовался Володя. – А ты и сиди одна, коли ты такая дура, – обратился он к Маше.
Девочка, не обращая внимания на его дерзость, подошла к Любочке и начала расспрашивать ее об ее игрушках. Любочка тотчас же показала ей все свои сокровища, состоявшие из тряпичной куклы, безногой лошадки, двух баночек из-под помады и маленькой красненькой коробочки. Маша попробовала было устроить игру и с этими скудными игрушками, но Володе досадно было, что сестры не обращают на него внимания, он подбежал к их уголку и ногами раскидал в разные стороны все их вещи. Любочка горько заплакала.
– Вот теперь я тебя считаю еще больше злым! – вскричала Маша, и краска гнева разлилась по лицу ее. – Ты можешь обижать маленькую девочку, которая не сделала тебе никакого зла!.. Не плачь. Любочка, милая, – обратилась она к бедной малютке, – сядем сюда на кровать, я тебе расскажу сказочку.
Обе девочки уселись на кровать, и Маша принялась шепотом рассказывать какую-то длинную, смешную сказку, слышанную ею от матери. Володя не трогал их, но он старался как можно больше шуметь, чтобы мешать им. Феде очень хотелось послушать, что рассказывает сестра и отчего так весело смеется Любочка, но он не смел отойти от двоюродного брата, который, радуясь, что нашел себе покорного товарища, повелительно покрикивал на него и даже иногда довольно неделикатно дергал его за руку.









