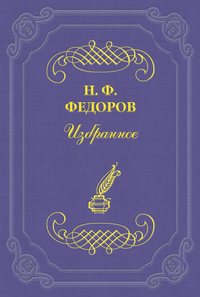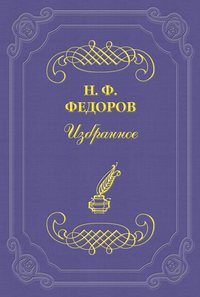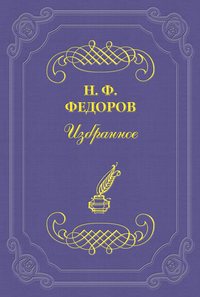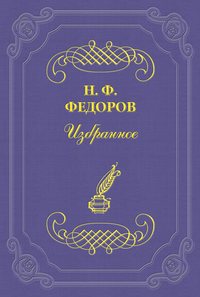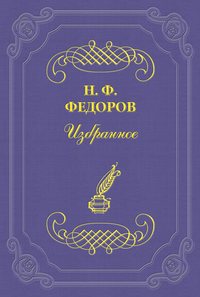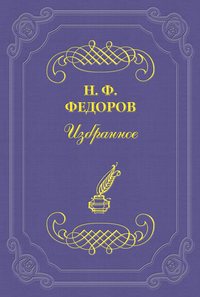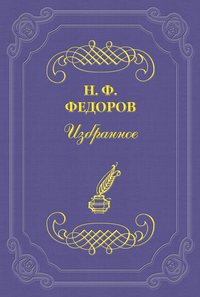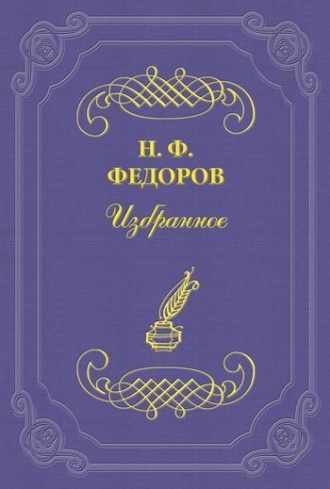 полная версия
полная версияВопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства
Но мы живем не на чужой только счет, не на счет лишь слепой природы, а также и на счет себе подобных, даже самых близких, заменяя, вытесняя их; и такое существование делает нас не только недостойными, но и преступными. Все бедствия, не только физические, но и нравственные, суть естественные последствия подчинения слепой силе, на счет которой мы живем; ибо, повинуясь влечениям слепой, чуждой, неподобной, хотя и в нас самих живущей, силы, становимся врагами себе подобных и даже самых близких. Таким образом, нынешняя жизнь делает нас не только недостойными счастья, но и несчастными; и если глубина самоосуждения делает Страшный суд из трансцендентного имманентным, то и искупление требует с нашей стороны усилий, труда для обращения не нами произведенного в трудовое. Долг, следовательно, возникает не из займа только, но и из греха, преступления; ибо каждое поколение, рождаясь, тем самым наносит смерть своим родителям, и потому долг есть вместе и повинность. Сознание, что этот долг не оплачен, есть сознание своей зависимости, рабства, невольности, смертности – словом, небратства. В неоплаченном долге заключается наказание рабством, смертью. Оплаченный долг есть возвращение жизни своим родителям, т. е. долга своим кредиторам и через то – свободы себе. Бессознательный, невольный грех, грех первородный, есть коренной смертный грех, грех против Духа Святого, против истинного просвещения; не принимать ответственности за этот грех, т. е. не трудиться, не принимать участия в деле воскрешения – значит лишить человечество будущности, обречь его на полуживотное состояние. Задача человеческого рода состоит в обращении всего бессознательного, само собою делающегося, рождающегося в сознательное, светлое, действительное, всеобщее, личное воскрешение.
При этом должно заметить, что содержание долга всегда одинаково, разница только в уплате, т. е. в чем мы полагаем уплату: око за око, жизнь за жизнь, конечно, уплата, и даже до жестокости равноценная; вира, т. е. материальное вознаграждение за рабочую силу, уплачиваемое семье убитого, тоже плата, хотя и весьма неравноценная; но как в том, так и в другом случае плата, очевидно, недействительна, произвольна и не уменьшает долга, а как в первом случае (око за око, жизнь за жизнь) даже удвояет его. Все преступления и проступки, от малейшего оскорбления до убийства, имеют значение разрушения жизни; юридическое же возмездие жизни не возвращает. Экономическая плата за вещи и услуги также недействительна. Правда, за услуги и вещи, полученные нами от других, мы можем уплатить тем же, т. е. подобными же услугами, такими же вещами, но не можем возвратить тех сил, той части жизни, которая потрачена на их производство; мена не заключает в себе взаимного возвращения потраченных жизненных сил, а ведет к взаимному разорению, к смерти. Все это показывает, что содержание долга всегда есть жизнь, а потому и погашением долга может быть только восстановление жизни – воскрешение.
Воскрешение и потому уже долг, что хранение невозможно. Хранить – значит отдавать гниению; всякая остановка есть падение; застой есть разрушение. Хранение есть заповедь Завета Ветхого, неполного, Завета, в котором и Божество представляют почившим и предметом упования ставится покой, так что субботний покой считается праздником для человека. Мало того, деятельность человеческая смертоносна и не может быть иною, если не поставить себе целью воскрешения. Такова и европейская цивилизация; ход ее разрушителен: поселение европейцев среди дикарей сопровождается вымиранием последних; в борьбе с туземцами принимает участие и растительная и животная жизнь; европеец несет с собой свою флору и свою фауну; торжество его сопровождается искоренением не только человека в нецивилизованных странах, но и гибелью туземной флоры и фауны. И между тем это страшное явление не стало вопросом, не сделалось предметом исследования, а принимается как явление неизбежное, роковое. Почему европейская цивилизация смертоносна – в этом не хотят дать себе отчета, и потому цивилизация остается слепою. Явление вымирания в диких странах только проявляется с наибольшею резкостью, действует же оно везде и всегда, составляя необходимую принадлежность цивилизации, и у народов наиболее цивилизованных вымирание уже начинается.
Признав своим долгом всеобщее воскрешение, для нас не будет страшно признать, что все первобытное человечество виновно в грехе каннибализма даже самых близких, и осудить этот грех мы не имеем права, потому что и в настоящее время живем на счет предков, из праха которых извлекаем и пищу и одежду; так что всю историю можно разделить на два периода: 1-й период – прямого, непосредственного каннибализма, и 2-й – людоедства скрытого, продолжающийся и доселе, который и будет продолжаться, пока человек не найдет выхода из своего заключения на земле. Но за этим вторым периодом необходимо должен последовать третий – период всеобщего воскрешения, как единственно действительного искупления греха каннибализма.
14. Полная добродетель состоит в соединении нравственности с знанием и искусством; такая добродетель (а не отсутствие лишь порока) не делает только достойными счастия, но и дает его; она есть не только благо или добро, но и само блаженство. И душеприказчество, т. е. воскрешение, есть не долг, не приказ или повеление только, но и желание нашей души, сохранившей детское чувство, или добродетель; ибо душа, согласно евангельскому критерию, есть «любы», и любовь именно сыновняя, которая по наследственному сходству не может думать о себе, не думая об отцах. Заповеди блаженства состоят в соединении добродетели со счастьем, причем связь между ними не трансцендентная, а имманентная. Все заповеди блаженства, сказанные в нагорной проповеди, сокращаются в одну, сказанную по воскресении апостолу Фоме (т. е. всем сомневающимся от полноты любви): «Блаженны не видевшие, но сохранившие веру», т. е. верность при исполнении общего дела, потому что они узрят Христа со всеми умершими как награду своего общего братского труда или, вернее, как результат его.
Полный долг есть воскрешение, т. е. обращение мира несвободного, где все определяется физическою необходимостью, причинностью, в мир сознательный, свободный, который теперь мы можем представить себе лишь мысленно, должны же осуществить его действительно, потому что это не идеал только, а проект; в таком осуществлении и состоит добродетель, которой необходимо принадлежит свобода и бессмертие, которая не делает людей только достойными счастья, но и дает им счастье, которая есть, следовательно, не только благо или добро, но и блаженство. Это не та бессильная, только личная или общественная добродетель, которая, повторяем, способна делать людей лишь достойными счастья; эта добродетель есть труд, доблесть всех, обращающая слепую, смертоносную силу природы в управляемую разумом, в живоносную (поклонение же слепой силе есть отречение от Бога и обращение человека в животное); потому-то она и заключает в себе силу делать людей счастливыми. Таким образом, человек, устраняя из своих действий личные побуждения, стремление к личному счастью, необходимо, однако, достигает его, потому что общая добродетель, т. е. дело всех, есть причина и воскрешения всех, следовательно, и личного бессмертия. Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех; это и есть объединение живущих (сынов) для воскрешения умерших (отцов).
Вопрос: «Зачем страдают добрые люди в этом мире и благоденствуют злые?» – назван новым евреем (Гейне) проклятым. Но прежде всего на него нужно ответить, что будут страдать добрые, а иногда и недобрые, до тех пор, пока будет задаваться вопрос: «Почему благоденствуют злые?» Когда сокрушаются о страдании добрых – это понятно, но какому благоденствию злых завидует Гейне, душевному ли их расположению или же материальной обстановке? Если же из приведенного вопроса устранить зависть, то останется: зачем страдают вообще люди? Точно так же если бы добрые люди поняли, что благ един только Бог, как это сказал Тот, Кто был под крестной ношей, тогда, быть может, они поняли бы и то, что истинно зол один лишь дьявол; и тогда опять-таки не пришлось бы задавать вопроса ни о безусловно добрых, ни о безусловно злых, и остался бы один вопрос о страдании вообще людей; но тогда и понятие «добрый» приняло бы иной смысл. Если с понятием «добрый», «благий» будет соединено, как в Боге, понятие ведения и силы, а не отсутствие лишь порока, как в добрых людях, т. е. если бы добродетель не делала бы лишь достойными счастья, но была бы силой, дающею счастье, то тогда никто бы не страдал и не был злым. Если же мы будем рассматривать добродетель отвлеченно от силы, если слабость знания, слабость физическая совместимы с добродетелью, то пассивное исполнение заповедей, т. е. исполнение заповедей лишь в тесном смысле, лишит ли огонь силы жечь, воду – топить и т. п.? Итак, чем же должно быть добро, чтобы добрые люди не страдали? Когда наступает голод, трудившиеся не собирают плодов своего труда, но не собирают потому, что труд их направлен к извлечению наибольшего дохода, а не к обеспечению верного урожая. Труд есть добро, но, не говоря уже о хищении, он не обладает ни знанием условий, от коих зависит урожай, ни силою или искусством управлять этими условиями, потому что знание служит интересам промышленности и торговли, а силы и деятельность человеческие поглощены производством и обработкою предметов роскоши и торговлею ими. Хотя и об этих последних занятиях говорят, будто и они дают хлеб, но чтобы понять всю несостоятельность такого выражения, достаточно представить себе, что все люди, оставив земледелие, обратились бы к промышленности и торговле, т. е. к производству предметов роскоши; тогда человечеству оставалось бы только умереть с голода. Обращение же всех без исключения людей к земледелию, обращение на земледелие всей силы знания обещало бы возможность изучения всех условий урожая, следовательно, возможность управления ими. Из этого очевидно, что действительная истинная добродетель может заключаться только в управлении слепыми силами природы. Германский философ (Кант), давая критерий для определения истинно доброго дела в видах отличия от мнимо доброго, пользуется этим критерием совершенно произвольно, так что долг, безусловный по форме, по содержанию оказался правилом, определяющим мелочные отношения до разрешения вопроса о том, позволительно ли принимать приглашение на неумеренность, без всякого стремления к выходу из этих отношений, хотя они далеко не могут быть признаны истинно нравственными. Настоящая жизнь, что называется земная жизнь (как будто иные миры существуют не в тех же условиях, как и земля, как будто и они не земли, – если не разуметь под неземною жизнью чего-то трансцендентного, чего-то мистического), настоящая жизнь, ограничиваемая кратким временем и тесным пространством (если человек свободен то свободен как птица в клетке), по мере того как условия, в которые поставлен человек, будут обращаться в орудия его воли, т. е. по мере исполнения долга, заключающегося в управлении слепыми силами природы, настоящая земная жизнь будет расширяться до границ самой природы, ибо сама природа, сознавая в нас свою несвободу, чрез нас же обращается в мир свободных, бессмертных личностей. Вернее же сказать, такое превращение мира производится чрез нас Богом, и именно Триединым Существом, Которое, когда совершится такое превращение мира, найдет в нем свое выражение.
15. Полный долг заключается в десяти ветхозаветных заповедях, понятых по-христиански, претворенных в одну общую, единственную заповедь всеобщего воскрешения40. Это путь, по которому может, или даже необходимо должно, перейти старои новоиудейство в христианство. Долг в истинно христианском его значении требует, чтобы заповедь служить истинному Богу и не творить себе подобий была понята в самом обширном, положительном, а не в ветхозаветном, или отрицательном, смысле. Ветхий Завет не давал первым двум заповедям должного значения, ибо, понятые по-христиански, они оказались бы в явном противоречии с третьего и, особенно, с четвертою заповедью. Вопреки первой и второй заповедям, требующим безусловного служения только истинному Богу, третья разрешает служение суете, запрещая лишь смешивать это служение с служением Богу; и разрешение это, очевидно, равнозначаще разрешению, заключающемуся в четвертой заповеди: шесть дней творить все дела свои и только седьмой посвящать на служение Богу. Шесть дней служить своим личным пользам и выгодам (узаконение розни), творить в них всякого рода подобия (т. е. обожать вещь, делаться орудием слепой силы природы и забывать об истинно подобных), а в седьмой день бездействием или даже только мысленно служить Богу – это, конечно, значит один день мнимо лишь служить истинному Богу (суббота – отрицание розни, но не положительное, деятельное братство), а шесть дней истинно служить ложным богам; это значит творить свой искусственный мирок наподобие естественного, а не воссоздавать мир естественный по образу Триединого Бога. Должно заметить, что под подобием мы разумеем не невинных идолов, которых так усердно истребляли, а всю ту обстановку, которая служит виною, причиною споров, раздоров, приводящих к смерти. При воссоздании же, или тождественном возвращении, такого раздвоения быть не может; тогда во всей шестидневной работе человеческой выражалось бы дело Божие, и в самом голосе человечества слышался бы голос Сына Человеческого: «Грядет час и ныне есть, егда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышавши, оживут» (Иоан. 5, 25) – оживут, конечно, материально, видимо, осязаемо. Христианство и будничный труд возвышает до работы воскрешения, а праздничное безделье обращает в дело воскрешения.
Противоречие между первыми двумя заповедями, понятыми в христианском смысле, с одной стороны, и следующими двумя, третьего и четвертою, – с другой, кончится, когда третья заповедь будет понята как запрещение служить мануфактурно-торговой суете города, а четвертая не будет разрешением селу служить слепой, смертоносной силе природы, а, напротив, будет повелением обратить ее в живоносную силу (Пасха) для служения Богу не мертвых, а живых. Вторая заповедь, понятая не отрицательно, а положительно, требует от четвертой обращения суточной и годовой работы во внехрамовую литургию, обращения слепого прогресса в пасхальный ход, превращения шестидневных личных дел, искусственной недели и такой же искусственной пасхалии в общее дело, управляющее естественными изменениями, годовыми и суточными. Пятая заповедь будет иметь христианский смысл, когда почитание родителей при жизни обратится, станет воскрешением по их смерти, а долгоденствие, награда за почтение, будет бессмертием. Шестая и седьмая заповеди (под нарушение коих могут быть подведены все преступления), понятые даже похристиански, только приготовляют души, очищая их от мыслей, заключающих в себе ненависть, зависть и всякого рода вожделения, приготовляют к одной не отрицательной, а положительной заповеди всеобщего воскрешения, которое освобождает даже от невольного греха, от греха вытеснения младшими старших. Шестая заповедь, запрещая ненависть, неприязнь, требует любви, а седьмая, запрещая прелюбы, предостерегает от искажения любви; седьмою заповедью осуждается слепая любовь, ибо бессознательная, чувственная любовь (отделение чувства от знания), такая любовь, как и злоба, производит смерть. Шестая заповедь в самом обширном смысле, т. е. в смысле не лишить жизни ни единого, самого малого живого существа, и в самом глубоком – не помыслить даже зла, неисполнима, как неисполнима и седьмая заповедь, понятая в строгом смысле, потому что такое исполнение этой последней повело бы к прекращению рода. Неисполнимость отрицательных заповедей требует исполнения положительной заповеди воскрешения; и в неисполнимости «не убий» заключается необходимость не только воскрешения, но и гарантия возвращения к жизни всех.
Итак, все преступления разрешаются в прямое или косвенное нарушение шестой заповеди, так же как все добродетели разрешаются прямо или косвенно, посредственно или непосредственно в одну великую добродетель, во Всеобщее Воскрешение, ибо оно есть не мнимое или только внутреннее раскаяние, а действительное возвращение всего отнятого, похищенного, полное заглаждение всех нарушений шестой заповеди. В обширную область преступлений против этой заповеди входят не только всякого рода оскорбления (медленное убийство), но и похищение вещей, т. е. нарушение восьмой заповеди; ибо похищая вещь, мы похищаем некоторую долю жизни, потому-то вещи или имущество и называются очень выразительно «животами». Под похищением же нужно разуметь и приобретение вещей по низким ценам, возникающим по случайностям спроса и предложения, возведенным экономическою наукою в закон, которому будто бы подчинены, или должны подчиняться, отношения разумных существ. Кроме того, похищая в чужом труде (т. е. в вещи) частицу жизни, мы в то же время освобождаем себя от труда; убивая, мы не хотим возвратить жизни, так как труд отчасти уже есть, а должен бы быть вполне действием воскрешения. Ценность труда определяется только отношением к воскрешению; изойти трудом, как этого требует долг, значит превратиться в дело, в действие воскрешения; положить душу свою в труд – значит ускорить свое и всех воскресение. Итак, преступность восьмой заповеди поднимается до преступности шестой, а добродетель труда возвышается до заповеди воскрешения; ветхозаветное «не убий!» превращается в новозаветное «воскрешай!» в смысле всеобщего, совокупного дела.
И в этом заключается полная противоположность двум современным направлениям, из которых одно видит единственное спасение в самом строгом исполнении восьмой заповеди и готово было бы даже уничтожить праздники, потому что люди этого направления и в праздниках усматривают похищение их собственности, богатства, которое могло бы быть приобретено для них, если бы праздник обратился в рабочий день. Другое же современное направле-ние, ставя вещь так же высоко, как и первое, видя в доставляемых вещью удобствах и наслаждениях единственно возможное для человека благо, желало бы совершенного уничтожения восьмой заповеди, как одной из немалых преград к уравнению состояний, в неравенстве которых люди этого направления полагают начало всех зол человеческого рода.
16. Всякое общество теряет подобие Триединому, вносит в себя мрак (невежество) и смерть, если вещь в этом обществе предпочитается взаимности. Раздор, вносимый вещью, отчуждает людей друг от друга, душа делается потемками, а наружность перестает быть верным выражением, откровением души, делается оболочкой, скрывающей душу, обманом. Это и есть обскурантизм, при котором лицезрение уже не значит душезрение, когда о внутреннем можно только догадываться, делать заключения, предположения, т. е. мыслить, а не видеть; доказательство же состоит в превращении мыслимого, представляемого в видимое, очевидное, причем знание тождественно просвещению, а общество есть проявление знания.
Как корыстолюбие (когда вещь предпочитается взаимности), так и властолюбие вносят мрак, обскурантизм в общество, и такое общество не может быть подобием Триединому Богу. Как только мысль отделяется от действия, мыслящее от действующего, последнее становится слепым, а мыслящее делается теоретическим; мрак отделяет интеллигенцию от темного сословия; темное для себя, это сословие темно и для интеллигенции; знание интеллигенции – не прямое знание, а лишь отраженное, бледный образ. Чем слепее, рутиннее становится действие, тем темнее оно для себя, тем менее выражает оно себя и для других, тем менее оно познаваемо. Обращение действующего в сознающего и мыслящего в действующего будет уподоблением нераздельности, единству. Вещь (природа) будет для нас явлением, исчезаемым, пока она будет рождаться, происходить помимо нашего сознания и воли. До тех пор мы не будем знать ни себя, ни внешнего мира, до тех пор невозможно и взаимознание, пока материя, не проникнутая светом, действием, будет стоять между нами как сила разъединяющая и нас самих превращающая в явления. Одно восстановление исчезнувшего, обращение его в сознающее и действующее есть доказательство, полное знание и прочное, бессмертное существование.
17. Промышленное направление, стремящееся обратить все дни в однообразную, прозаическую, душеубийственную работу, а с другой стороны, общество так называемого воскресного покоя, воскресной, так сказать, субботы, усиливающееся под видом христианства восстановить иудейство, – эти два противоположных направления представляют в настоящем веке два самых существенных разрешения вопроса о долге. Но фабричное язычество, лишенное даже истинной, действительной художественности, обращающее творческие силы людей на производство вещей домашнего употребления (Примечание 22-е), как и прикрывающееся именем христианства иудейство, бессильны решить этот вопрос. Нынешняя работа резко отличается от прежнего труда; главная трудность ее состоит не в усиленной деятельности всего человека (ибо в работе нередко участвует лишь несколько пальцев) – неприятная сторона ее, полагаем, заключается в усилии держать в бездействии все остальные, не участвующие в работе члены. После такого вынужденного шестидневного бездействия седьмой день может разрешаться только разгулом, а не покоем. Рабство древнего классического мира сравнительно с рабством нынешнего времени может быть названо номинальным; хотя рабы тогда и считались вещью, но работа их не была так однообразна, как в настоящее время, и между этими рабами были и такие, которые занимались умственной работой, тогда как нынешние рабы суть действительные вещи, или машины, исполняющие однообразные операции. Итак, ни нынешний покой, или иудейство, ни современное язычество, или фабричная работа, не решают вопроса; одно воздержание от суетности, доведенное даже до возможных человеку пределов, а не в течение одного лишь дня в неделю, не может еще привести к цели; точно так же не достигнет человек ее и в том случае, если обратится в машину для производства фабричной работы. Нельзя лицемерить с воскрешением, ибо оно одно и есть истинное дело, заменяющее праздность и освобождающее от фабричной работы!..
18. Воскрешение есть заповедь не новая, а столь же древняя, как культ предков, как погребение, которое было попыткою оживления; оно так же древне, как и сам человек. Воскрешение есть естественное требование человеческой природы, и оно исполнялось, насколько человек был сыном человеческим, и не исполнялось, поскольку в человеке оставалось животного. Долг воскрешения, долг к отцам, сыновний долг, как его можно назвать, явился в мир вместе с человеком. Для воскрешения человек восстал, принял вертикальное положение, положение сторожевое и трудовое. Востание[20], сделавшееся постоянным, проявляющееся в непрерывной бдительности, наблюдательности и в непрерывной работе, заменяющей даровое трудовым, выражает не положение только, но этим востанием даются уже средства, направление, смысл и цель, им открывается сознание себя сыном человеческим. С того момента, как человек обратил взоры к небу, принял вертикальное положение, вся деятельность его, как она ни извращалась, имела целью служение отцам. Это служение заключалось особенно в земледелии, которое в глазах человека было необходимо не для сохранения только жизни живых, но и для восстановления жизни умерших. Даже сделавшись гражданином, отрешившись от связей с живой природой, человек не переставал, хотя и невольно, выражать этот долг и в знании и в искусстве; даже самые пороки его, корыстолюбие, тщеславие, были лишь извращением этой добродетели, этого долга. Вся деятельность его объясняется из чувства смертности и соответствующего ему стремления к воскрешению, постоянно, впрочем, нарушаемого животным стремлением к самосохранению и наслаждению.
19. Древней истории давало смысл искание страны умерших отцов, рая, которое отчасти и заменяло стремление к воскрешению, видоизменяло его; но это могло продолжаться до тех пор, пока земля не вся еще была открыта, пока оставалось еще место для мифической географии, для рая и ада. Недостаток средств жизни, добываемых для живых и умерших, был лишь побуждением, ускорявшим движение, которое понималось как возвращение в страну предков; представление предков удалившимися в иные страны служило оправданием движения, переселения, а могилы их, которые признавались не лишенными жизни, были причиною, задерживавшею движение. И статика, и динамика человеческого рода имеют в своем основании веру или мысль об отцах; движение и покой человеческого рода держатся на этом представлении.
Кратко вся история дохристианского мира, до Воскресения Христова, может быть выражена так: Древний мир ставил главною целью своего существования сохранение или заботу о жизни предков, которых он представлял себе живущими, хотя и иною, чем мы, жизнью, причем благосостояние умерших, по мнению древних, зависело от жертв, приносимых еще не умершими, а для сохранения души нужно было создать ей тело, так что сохранение души было восстановлением тела. Во всех открытиях, на суше и на море, выражалось стремление отыскать страну умерших; по крайней мере в народных сказаниях придавался такой смысл всем этим открытиям, судя по тому, что все путешествия на Запад морем и на Восток сушею, начиная с Одиссея и до экспедиции Александра, заканчивались, по народным легендам, открытием рая и схождением в ад. Морские путешествия могли представляться для народа средством к открытию «страны мертвых» еще скорее, чем сухопутные, потому что у приморских народов гробом служила лодка (почему и самое название корабля «ναοσ» имело общий корень с «навье» – умерший) – лодка, которую уносило в неведомые страны Запада или Востока, и за «вратами плача» (Баб-эль-Мандеб) встречаем Эдем (Аден), рай. Мореплаватели шли, можно сказать, по следам покойников; таким образом проложил себе древний человек путь и чрез Геркулесовы Столпы, в Западный Океан. Открытия восточные, сухопутные, завершились походом Александра в Индию; этот поход в народном представлении является «хождением Александра в ту страну, где небо сближается, соткнулось с землей, где начинается рай» (поэма «Александрия»)[21]. Такие путешествия, хотя и мнимые, выражают действительную потребность сближения с умершими, потребность возвращения их из области тьмы (ада) к жизни. Но страну умерших, т. е. рай и ад, по мере открытий, по необходимости, приходилось отодвигать все дальше и дальше, потому что представлять ее возможно было лишь за пределами известного, уже открытого; и вот Древний мир, отыскивая предков, открыл Индию, и это открытие повлекло его к измене долгу, к соблазну поставить наслаждение настоящим на место служения отцам (Примечание 23-е). Услужливая философия явилась для оправдания измены, поколебав и даже совсем уничтожив верование в существование ада и рая и в самую загробную жизнь. Философия, начавшаяся сомнением в необходимости забот о предках (что составляло цель существования живых), кончила всеобщим скептицизмом.