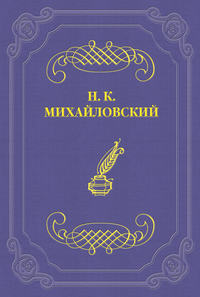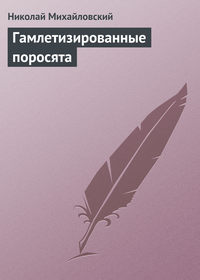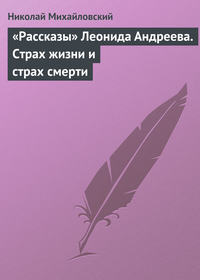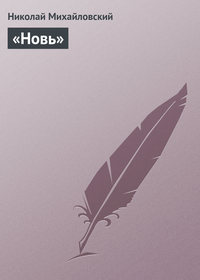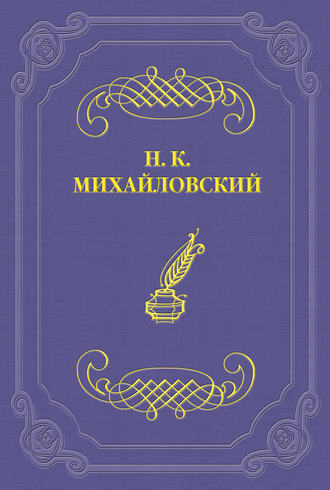 полная версия
полная версияЛитературные воспоминания
Последние годы жизни Минаева озарились некоторым мягким светом, но в смысле воздействия на его литературную деятельность это озарение уже запоздало: как писатель, он уже сложился бесповоротно. А между тем, кое-что в его литературной физиономии подлежало бы изменению. Человек, бесспорно, очень талантливый, он прежде всего необыкновенно разбрасывался. Разбрасывался отнюдь не так, как Курочкин, который, дробя свои недюжинные силы, сосредоточивал их все-таки на своем журнале. Я не знаю, что сталось бы с Курочкиным, если бы у него не было журнала, хотя уже его исключительная любовь к Беранже свидетельствует, что он выбрал бы себе определенное русло в литературе. Минаев же ни на чем не останавливался вдумчиво и продолжительно, – он скользил по явлениям литературы и жизни. Вдобавок он был виртуоз слова, – каламбур, игра слов, трудная и какая-нибудь особенно фокусная рифма всегда соблазняли его, настолько соблазняли, что заслоняли собою подчас мысль. Впрочем, на этот счет о Минаеве говорилось так много, что я предпочитаю остановиться. Думаю, что беспорядочная жизнь много способствовала этой разбросанности и этой чрезмерной наклонности к разнообразной, виртуозной и мелкой игре словами.
Ни В. С. Курочкин, ни Минаев не представляли для меня загадки. По своей молодой неопытности я ошибался, видя в В. С. Курочкине какое-то ходячее заразительное веселье и не умея проникнуть дальше коры грубой распущенности, которая облегла душу Минаева. Но так или иначе, а мне казалось, что я их понимаю. Совсем другое дело Кроль и Толбин. Это были типичные представители какой-то совсем другой эпохи, другого, чуждого и непонятного мне духовного склада. Тип этот живо восстал в моей памяти недавно, при чтении воспоминаний г. Фета. Я приведу несколько отрывков из этих воспоминаний, которые пояснят мое тогдашнее недоумение.
Рассказывая об одном семействе, в котором было две дочери, г. Фет говорит: «О меньшей, если не говорить об ее черных волосах, широко выведенных бровях и замечательно черных и блестящих глазах, сказать более нечего, но старшая, блондинка, была явлением далеко не дюжинным. Уже одно ее появление в дверях невольно кидалось в глаза. Она не входила, а, так сказать, шествовала в комнату, строго сохраняя щегольскую кавалерийскую выправку: корпус назад, затылок назад» (Воспоминания, I, 3){59}.
В январе 1858 года Кокорев{60} давал в Москве обед, на который в числе других московских литераторов получил приглашение и г. Фет. За обедом Кокорев сказал речь, в которой повторил сказанное им уже раньше в купеческом клубе, а именно «о добровольной помощи со стороны купечества к выкупу крестьянских усадеб». Г. Фет рассказывает: «Помню, с каким воодушевлением подошел ко мне М. Н. Катков и сказал: „Вот бы вам вашим пером иллюстрировать это событие“. Я не отвечал ни слова, не чувствуя в себе никаких сил иллюстрировать какие бы то ни было события. Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты. Тем не менее за столами, покрытыми драгоценным старинным серебром: ковшами, сулеями, братинами и т. д., с великим сочувствием находились наиболее выдававшиеся в литературе славянофилы» (I, 225).
«Я не встречал человека, в котором бы стремление к земным наслаждениям высказывалось с такою беззаветною откровенностью, как у Боткина (Василия){61}. Можно было бы подумать, что он древний грек, заставивший Шиллера в своем гимне „Боги Греции“ воскликнуть:
Было лишь прекрасное священно,Наслажденья не стыдился бог…Но нигде стремление это не проявлялось в такой полноте, как в клубе перед превосходной закуской. „Ведь это все прекрасно! – восклицал с сверкающими глазами Боткин. – Ведь это надо все съесть!“» (II, 24).
«Неудивительно, что в доме гр. А. К. Толстого, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лестницы во второй этаж была заброшена мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был превосходный гастроном, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками» (II, 26). Я мог бы сделать еще много подобных выписок из воспоминаний г. Фета, но полагаю, что и приведенного достаточно, чтобы повергнуть по крайней мере некоторых читателей в недоумение. Что это такое? Что это за удивительный переплет чистого искусства, поклонения красоте с сладострастием обжорства и оценкою женщины с точки зрения «щегольской кавалерийской выправки: корпус назад, затылок назад»? «Было лишь прекрасное священно… особенно в клубе перед превосходною закуской». «Не какие-нибудь профессиональные художники, а настоящие, свободные служители вечного искусства рисовали картины гр. Толстому… да он и сам был превосходный гастроном». Поразительно здесь не то, что люди любят хорошо поесть и в то же время любят и ценят хорошие картины или вообще почитают искусство, – поразительно то, что все это соплетается для них органически, принципиально, так что слова «священная» и «закуска», «das ewig weibliche»[7] и «кавалерийская выправка», «Шекспир» и «стерляжья уха» могут совершенно спокойно уживаться в мозгу и на бумаге рядом, пополняя друг друга. Вот эта самая черта поражала меня и в Кроле, и Толбине. Потом, когдя я пожил на свете, повидал всякие виды и вдумался в доктрину святого чистого искусства, я перестал удивляться. Я понял цельность, законченность того типа, который так часто мелькает на страницах воспоминаний г. Фета. Но тогда недоумение мое было тем сильнее, что Кроль и Толбин не представляли собою столь законченного типа. Дело не в том, что г. Фет, В. Боткин и проч. приправляют свои беседы шампанским и стерляжьей ухой, а Кроль и Толбин не отказывались от водки с колбасой и пива, – это просто дело средств; хотя и то надо все-таки сказать, что серебряные блюда и трюфеля как-то больше гармонируют с помесью «священного» и «закусочного». Затем, сколько я помню, Толбин был просто, что называется, добрый малый, без всякого определенного образа мыслей, а Кроль грешил подчас некоторым либерализмом. Это тоже не дело, тоже портит тип. Г. Фет и многие его собеседники гораздо цельнее, последовательнее. Воспоминания г. Фета интересные, если не сплошь, то во многих своих подробностях, особенно ценны по тому документальному материалу, который в них в изобилии вложен. Письма Тургенева, гр. Л. Толстого, Боткина очень многое характеризуют и освещают. Вот отрывки из писем Тургенева:
«Я говорю, что художество такое великое дело, что целого человека едва на него хватает со всеми его способностями, между прочим, и с умом; вы поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего» (I, 391).
«Вероятно, по прочтении моей новой повести, которая едва ли вам понравится, вы и ее недостатки припишете уму. Дался вам этот гонный заяц. Смотрите! (В подлинном письме нарисован заяц, на спине которого написано: ум – и настигающая его борзая собака с лицом бородатого человека и с надписью на спине (Фет)» (I, 393).
«Вы – закоренелый и остервенелый крепостник, консерватор и поручик старинного закала» (I, 404).
«Моя претензия на вас состоит в том, что вы все еще с прежним, носящим уже все признаки собачьей старости упорством нападаете на то, что вы величаете „рассудительством“, но что, в сущности, не что иное, как человеческая мысль и человеческое знание» (II, 94).
Надо заметить, что Тургенев был очень расположен лично к г. Фету и все, только что приведенное, входит в состав вполне дружеской переписки. Тем, разумеется, ценнее в данном случае характеристика Тургенева. Если вы прибавите ее к «священной закуске», «кавалерийской выправке», то получите чрезвычайно яркий тип, которым можно, пожалуй, даже любоваться, как можно любоваться законченным художественным воспроизведением хотя бы неприятного сюжета. Это не помешает вам, конечно, отвернуться от самого сюжета при встрече с ним в жизни. Так бы я и поступил даже в своей ранней молодости, если бы Кроль и Толбин совмещали в себе все элементы типа. Но этого не было, и я решительно недоумевал. Однажды мне пришлось, впрочем, настоятельно предложить Кролю удалиться из моего мезонина, – до такой степени ошеломил он меня каким-то чудовищным сплетением эстетических идеалов с чем-то совершенно уже некрасивым в этическом смысле. Потом я имел много случаев убедиться, что хотя этика и эстетика – весьма близкие родственники, но между ними часто разыгрывается история Каина и Авеля. В этом, конечно, и заключается истинная причина того одностороннего и преувеличенного гонения, которое некоторые пылкие молодые головы воздвигали в шестидесятых годах на эстетику. Как бы односторонне и преувеличенно ни было это гонение, оно имело свои жизненные основания; в особенности если к этике прибавить еще политику. И было в нем, несомненно, зерно правды. Его можно формулировать вопросом: Каин! где брат твой Авель?
II
«Гласный суд», «Современное обозрение», «Отечественные записки». – Некрасов. – Роман «Борьба» и статья «Что такое прогресс?» – Салтыков, Елисеев, Успенский. – Некрасов как человек.
Продолжаю вспоминать.
Я был молод, здоров, силен, одинок, а известно, что одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И все-таки туго приходилось летом 1867 года, – туго и от невольного, вынужденного безделья, когда только что попробовал сладкого яда литературной работы, туго и прямо от материальных лишений. Для воспроизведения нашей «богемской» жизни на Черной речке нужно бы перо Мюрже{62}. Уже кое-что из мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты… Уже не раз кухарка на вопрос: «В долг, что ли, в лавочке-то взять?» – получала веселый ответ: «Да, да, в долг, Долг прежде всего». Уже не раз веселое богемское житье, при котором, восстав от сна, не знаешь, будешь ли сегодня сыт или нет, становилось в тягость. В особенности Курочкину, который был и старше, и избалованнее, и требовательнее меня. И вот в один прекрасный день явился вестник избавления. Это был П. А. Гайдебуров, нынешний редактор-издатель «Недели». Он приехал приглашать Курочкина в ежедневную «судебно-политическую» газету «Гласный суд», издателем и ответственным редактором которой был некто Артоболевский. По профессии Артоболевский был не литератор, а стенограф, и притом человек малообразованный. «Гласный суд» он предпринял в 1866 году, я полагаю, просто с спекулятивными целями, в расчете на заголовок: новый суд был тогда действительно новинкой. Сверх того Артоболевский издавал «Самоучитель стенографии», выходивший еженедельно. Первый год газета, то есть подписка на нее, шла, кажется, бойко, но уже на следующий год выяснилось, что на одной спекуляции в литературном деле далеко не уедешь. Как и когда попал в «Гласный суд» г. Гайдебуров, я не знаю. Знаю только, что летом 1867 года он приехал к Курочкину с просьбою о сотрудничестве. Курочкин взял на себя отдел иностранной политики и рекомендовал г. Гайдебурову меня для критического отдела и, помнится, Демерта для внутренних известий{63}. В этом последнем я не уверен. Домовитый, хозяйственный Демерт не выдержал нашего слишком уже цыганского житья и летом же 1867 года уехал в провинцию на службу или искать службы. Но я не помню, уехал ли он до или после неудачной пробы с «Гласным судом». Если после, то, по всей вероятности, и он участвовал в этой «судебно-политической» газете, в сущности, впрочем, издававшейся по обыкновенной программе ежедневных газет. Но зато я хорошо помню себя и Курочкина за работой в «Гласном суде». Курочкин по своим обязанностям заведующего отделом иностранной политики должен был ездить в город, в редакцию, каждый день, я же лишь время от времени. Помню, как мы, окончив дела в редакции, отправлялись с спокойствием людей вполне обеспеченных трапезовать в греческую кухмистерскую «Афина», на углу Троицкого переулка и Невского. Не знаю, существуют ли подобные благодетельные учреждения теперь. В «Афине» можно было копеек за тридцать наесться разной дряни до хорошего расстройства желудка, а истративши рубль, сам Лукулл остался бы много доволен, особенно если бы знал, как знали благодаря «Гласному суду» мы, что и завтра, и послезавтра расстройство желудка вполне обеспечено. Не житье, а масленица. Однако и этой масленице пришел конец, и наступил настоящий великий пост. Дела Артоболевского шли все на убыль. Однажды он предложил нам сбавку гонорара, причем выдал нам какие-то расчетные или памятные книжки, по которым впоследствии, когда дела поправятся, мы могли дополучить свой заработок. Но дела не поправлялись и, как очень скоро с очевидностью выяснилось, не могут поправиться. Прекратился ли за истощением средств издателя «Гласный суд» или мы не дождались этого конца, не помню. Произошла трогательная сцена расставания, причем Артоболевский в благодарность за сотрудничество предложил нам подарок – «Самоучитель стенографии». Он великодушно отдавал это еженедельное издание в наше полное распоряжение. Подписчиков у «Самоучителя» было, правда, очень мало, но Артоболевский указал нам другую выгоду: так как значительная часть «Самоучителя» печаталась не обыкновенным шрифтом, а стенографическими знаками, то под прикрытием их мы могли бы совершенно свободно излагать свои мысли – цензура ничего не поймет. Это была блестящая мысль, достойная стенографического гения Артоболевского, но при осуществлении ее предстояло то маленькое неудобство, что и читатель ничего не поймет. Эта маленькая тучка на открывавшемся пред нами широком горизонте заставила нас отказаться от подарка.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этот раз, однако, дело делалось почти так же скоро, как идет мой рассказ. Если мне не изменяет память, то двумя фельетонами и одною передовою статьею исчерпывается мое сотрудничество в «Гласном суде»{64}.
Приближалась и приблизилась осень, впереди была зима, а зимой бывает ужасно холодно в летнем пальто. Тут подошли и еще некоторые обстоятельства, и я решил уехать из Петербурга к родным в деревню{65}. Несмотря на все невзгоды, у меня ни разу даже не мелькнула мысль изменить литературе для какой-нибудь другой деятельности. Очевидно, я был в этом отношении уже конченый человек. В самом водовороте цыганской жизни мне удалось все-таки работать, приготовляясь к исполнению обширных литературных планов. В деревню я повез с собою таковых два.
Еще под влиянием Ножина и отчасти под его руководством я заинтересовался вопросом о границах биологии и социологии и возможностью их сближения. Ножин был мало сведущ в общественных науках, но в области биологии он, наверное, очень быстро занял бы одно из самых видных мест, если бы его не подкосила ранняя смерть. Он много работал самостоятельно, между прочим, над историей развития низших морских животных, и одна такая специальная работа – результат его личных наблюдений на берегу Средиземного моря, – напечатанная в бюллетенях нашей Академии наук, обратила на себя внимание и в Европе. Но узкая специальность не удовлетворяла его, он рвался вдаль и вширь. Он был ярый дарвинист в биологии и столь же ярый противник дарвинизма в социологии. Дарвина он называл «гениальным буржуа-натуралистом». Не могу достаточно высоко оценить пользу, доставленную мне общением с кругом идей Ножина, но в них было все-таки много смутного, частью потому, что они в самом Ножине еще только развивались, частью по малому его знакомству с областью обществознания. Я получил от Ножина собственно только толчок в известном направлении, но толчок сильный, решительный и благотворный. Не помышляя о специальных занятиях биологией, я, однако, много читал по указанию Ножина и как бы по его завещанию. Эта новая струя чтения бросала своеобразный и чрезвычайно меня занимавший отблеск на тот значительный, хотя и беспорядочный, а частью и просто негодный материал, фактический и идейный, которым я запасся раньше. Постепенно, сначала в очень смутных очертаниях, скорее угадываемых, чем сознаваемых, складывался план обширной социологической работы. Появившиеся в 1866 году по-русски первые тома сочинений Спенсера придали несколько более определенные контуры одной части этого смутного плана – теории прогресса. Резкая противоположность идей и приемов Спенсера всему тому, до чего я мысленно не то что доработался, а дорабатывался, уяснила мне многое. Однако и эта часть общего плана была еще далеко не ясна, когда я уезжал в 1867 году из Петербурга. Тем более что в то же самое время меня преследовал еще другой литературный план – роман. Из этого романа, никогда не конченного, я впоследствии, в 1876–1877 годах, выбрал значительную часть материала для полубеллетристических-полупублицистических очерков «Вперемежку». Перепечатывая эти очерки в IV томе своих сочинений[8] рядом со статьей «Что такое прогресс?», я писал в предисловии: «Несмотря на то, что обе эти вещи писаны в разное время, несмотря, далее, на разницу формы, читатель, надеюсь, усмотрит их внутреннее единство и, следовательно, оправдает такое на первый взгляд странное соседство»{66}. С тех пор я имел случай убедиться, что внутреннее единство обеих половин IV тома не так уж ясно для многих читателей, как я предполагал. Но для меня-то оно тем яснее, что хотя обе эти половины писались в разное время, но обдумывались и зарождались как раз одновременно. Убедившись в слабости своего художественного дарования, я бросил роман (хотя позже, в восьмидесятых годах, меня опять потянуло к беллетристике{67}), но в 1867 году он меня очень занимал. Он настолько подвинулся вперед, что, вернувшись 1868 году в Петербург, я уже мог подумывать о том, куда бы его пристроить.
В 1868 году в петербургской журналистике после полуторагодового затишья наступило значительное оживление. Некрасов взял в аренду «Отечественные записки» и совершенно их преобразил. Книгопродавец и книгоиздатель Тиблен{68} открыл новый ежемесячный журнал «Современное обозрение»{69}. Появилась «Неделя», издававшаяся Генкелем{70} и редактировавшаяся П. Ф. Конради. Н. С. Курочкин, приглашенный Некрасовым для заведования библиографическим отделом в «Отечественных записках», усиленно тянул меня в этот журнал, но я упорно отказывался. Громкое, дорогое нам, тогдашней, да, надеюсь, и теперешней молодежи имя Некрасова очень потускнело со времени закрытия «Современника». Надо заметить, что уже в 1864 году «Современник» стал терять свой престиж, равного которому дотоле не было во всей истории русской журналистики. Нечего и говорить о нас, тогдашней молодежи, – мы упивались «Современником». Но и гораздо более солидные и значительные сферы испытывали на себе его обаяние. Есть два рода, два характера литературной деятельности. Одни писатели думают влиять непосредственно на ход государственной жизни в ее механике сегодняшнего дня. Другие рассчитывают влиять лишь на общественное мнение, воспитывать в обществе известное настроение, известные идеалы, подлежащие практическому осуществлению, может быть, завтра, а может быть, через много лет. Нет принципиальных оснований для разлучения этих двух видов литературной деятельности, но жизнь то разлучает их, то дозволяет им сливаться в одно течение. В Европе, где представители общественного мнения могут быть вместе с тем и официальными руководителями практической жизни, упомянутое различие двух видов литературной деятельности весьма слабо. Оно определяется, может быть, исключительно личными вкусами и темпераментами самих писателей. Один более склонен к разработке общих идеалов, озаряющих жизнь в ее целом и отражающихся на умственном и нравственном настроении всей массы общества; другой, напротив, по своему темпераменту, привычкам, воспитанию предпочитает оказывать непосредственное давление на людей, стоящих у власти. Но ничто, кроме личных склонностей, не мешает им в любой момент поменяться ролями или совместить их в одном лице. У нас дело происходит несколько иначе. Белинский, например, имевший огромное влияние на общество и воспитавший не одно поколение, не был даже и последнею спицей в официальной колеснице русской жизни. Блестящим и едва ли повторимым, по крайней мере в ближайшем будущем, образчиком литературной деятельности противоположного характера может служить Катков{71}. Однако и у нас в некоторые приподнятые моменты жизни возможно до известной степени сочетание обоих характеров деятельности (я говорю о характере, а не о направлении деятельности). Таково именно было положение «Современника». Это, впрочем, мимоходом. Для нас, молодых читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаление Чернышевского{72} произвели непоправимый изъян в физиономии «Современника». А рядом с этими тяжкими потерями в составе «Современника» поднималось значение «Русского слова», в особенности Писарева. И когда «Современник» устами М. А. Антоновича завел длинную и грубую полемику с «Русским словом»{73}, престиж «Современника» и еще поблек. Русский читатель любит присутствовать при полемических схватках, но есть пределы и содержания, и формы полемики, перейдя за которые даже такой даровитый писатель, как г. Антонович, может лишь уронить свое дело. Так и случилось. Охлаждение к «Современнику» вообще осложнилось еще слухами о неблаговидном поведении Некрасова в трудное время 1866 года{74}, – слухами, вызвавшими известное послание «неизвестного друга», озаглавленное «Не может быть»{75}:
Мне говорят твой чудный голос – ложь,Прельщаешь ты притворною слезою,И словом лишь толпу к добру влечешь,А сам, как змей, смеешься над толпоюИ т. д.
Известную степень справедливости дурных слухов всенародно признал несколько позже сам Некрасов в своем ответе «неизвестному другу»{76}:
Не торговал я лирой, но, бывало.Когда грозил неумолимый рок,У лиры звук неверный исторгалаМоя рукаИ далее:
Я призван был воспеть твои страданья,Терпеньем изумляющий народ!И бросить хоть единый луч сознаньяНа путь, которым Бог тебя ведет;Но, жизнь любя, к ее минутным благамПрикованный привычкой и средой,Я к цели шел колеблющимся шагом,Я для нее не жертвовал собойВраги, которых всегда много у всякого видного литературного деятеля, ликовали, друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились. Мне, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что ваш Некрасов? Хорош?!» Нехорош, конечно, но как-то горько и обидно было признать это… Оскорбление, нанесенное моей юной душе Некрасовым, было слишком велико, и немудрено, что я упирался идти в «Отечественные записки». Тогда в литературных кружках много говорили, между прочим, и о противоестественности союза Некрасова с Краевским{77}, который тянул в старых «Отечественных записках» совсем неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я знал от Н. С. Курочкина, что никакого союза тут нет, а есть простая денежная сделка, в силу которой Краевский отдавал на известный срок и за известную ежегодную плату свой журнал Некрасову, обязуясь не вмешиваться в литературную сторону дела. Дела «Отечественных записок» при Краевском шли все хуже и хуже. Ни борьба г. Страхова с «Западом» и с «нигилистами», ни другие перлы не спасали журнал от очевидного падения. И даже после 1866 года Краевский не мог бы повторить фразу Скалозуба: «Довольно счастлив я в товарищах своих, – те, смотришь, умерли, другие перебиты». Прекращение «Современника» и «Русского слова», благодаря которому сильно очистилось поле конкуренции, не улучшило дел «Отечественных записок». Пришел Некрасов и предложил Краевскому выгодные условия. Краевский, человек, собственно говоря, совершенно чуждый литературе, хотя и наживший на ней каменные палаты, согласился отдать свой журнал представителям враждебного ему направления (если позволительно говорить о направлении Краевского). Эта сделка бросает тень уж, конечно, не на Некрасова, хотя враги Некрасова пробовали эксплуатировать и этот факт. Меня он, повторяю, не смущал. Но смущала сама личность Некрасова, которого я когда-то так горячо, хотя и заочно любил, которым зачитывался до слез. Напрасно добрейший Н. С. Курочкин соблазнял меня перспективой возрождения «Современника»; напрасно указывал, что если в новых «Отечественных записках» не будет таких сотрудников «Современника», как гг. Антонович и Жуковский, то будут Салтыков и Елисеев, имена которых достаточно гарантируют направление журнала; напрасно объяснял поведение Некрасова в 1866 году исключительностью обстоятельств. Самым тяжелым для меня был тот аргумент ad hominem[9], который наконец пустил в ход Курочкин. Он спрашивал: если он, Курочкин, старый, опытный, никогда себе не изменявший писатель, находит возможным работать у Некрасова, то неужели же мне, писателю начинающему и еще ничем себя не заявившему, это постыдно? И неужели я, хорошо его знающий, имею к нему так мало доверия? Я мог бы на это, конечно, многое возразить, но не возразил ничего. Курочкин был моим литературным крестным отцом, он приютил и кормил меня в трудное время, никогда ничем не давая мне почувствовать, что делает одолжение. Но и помимо этих личных отношений я, несмотря на все его слабости и смешные стороны, искренно уважал его как человека. Естественно, что у меня не повертывался язык возражать на его argumenrum ad hominem. Мы порешили на том, что я попробую работать в отделе библиографии, которым он заведует, а что будет дальше – посмотрим.