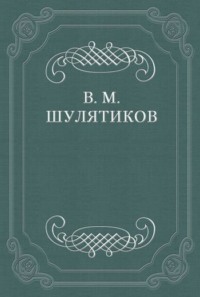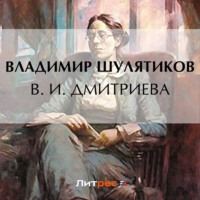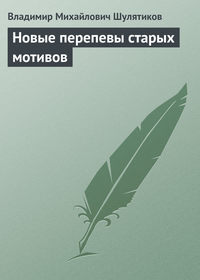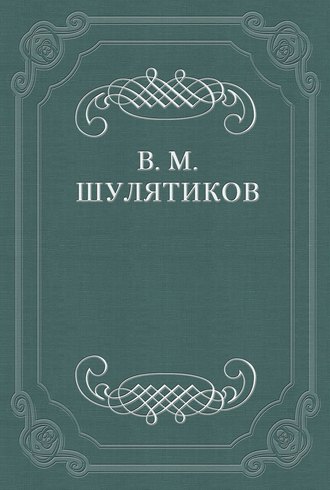 полная версия
полная версияИз теории и практики классовой борьбы: Происхождение командующих классов. Основы их идеологии. Вопрос об интеллигенции.
На той же почве возникает учение о так называемом переселении душ метампсихозисе. Но это учение в своей окончательной форме – форме, в которой оно сложилось у египетских жрецов, у орфиков, пифагорейцев и Платона – есть продукт дальнейшей фазы социально-экономического развития. Последователи этого учения оперируют с понятием о духовной субстанции, уже достигшем сравнительно высокой степени отвлечения.
Абстрагирование названного понятия совершилось, как известно, следующим путем: «прогресс состоит в подчинении духа каждого дерева – богу леса, различных речных духов – богу рек и т. д. На более высокой ступени ум полагает одного бога для воды, другого для огня, третьего для земли и т. д.»[43] Равным образом – дополним цитату – постепенно объединяются духи отдельных частей тела, постепенно подчиняются одному духу, духу всего тела.
Не трудно установить, чем определяется охарактеризованный процесс. В основе примитивного анимизма лежала слабая организованность производства первобытного общества, а эта слабая организованность, в свою очередь, обусловливалась малым совершенством техники, точнее малым совершенством средств производства. Но техника прогрессирует. Усовершенствование орудий постепенно делает ненужным расход рабочей энергии на массу специальных операций, нивелирует процессы труда, считавшиеся до того времени различными (напр., сбор плодов различных деревьев или охоту за различными животными). В соответствии с этим, представлявшийся сознанию первобытного дикаря, хаос «материального» мира несколько упорядочивается, достигается большая систематизация явлений, устанавливается связь между элементами, которые казались несоизмеримыми. Уменьшается число индивидуальных понятий, возрастает число «родовых».
Открываются новые области производства; одна форма техники сменяет другую, одно орудие производства торжествует победу над другим. Общественное производство усложняется и дифференцируется. Ближайшее следствие этого усложнения и дифференцирования, – как мы отмечали неоднократно, – усиление позиции организаторов. А как следствие этого следствия – переработка идеологических концепций, на которые опираются «господа» исторической сцены – и в том числе концепции об организаторской воле.
Расстояние между организующими и организуемыми увеличивается в возрастающей прогрессии: в соответствии с этим противоположение «духовного» и «телесного начала подчеркиваться все резче и резче. Если раньше дух и тело признавалось совершенно разнородными субстанциями, то все же как никак, они стояли сравнительно недалеко друг от друга: согласно верованиям примитивного «полидемонизма», духи входили в непосредственную, повсеместную, повседневную связь с миром «материи», их проявления были, так сказать, «будничными» актами. Далее они оказывались не чуждыми некоторых «земных» мотивов: им свойственны разные страсти и корыстолюбивые возжелания; они, как известно, не стеснялись вступать по тем или иным поводам в состязание и борьбу со слабыми смертными, рельефно оттеняя этим невысокий уровень своего превосходства над последними. Самое понятие о духе характеризовалось довольно неопределенными признаками: дух не что иное, как какая-то «тень», как какое-то «отображение» (выражаясь термином греческой мифологии – eidolon) человека. Теперь «пафос расстояния» устраняет компрометирующую духа близость к «земному праху».
Организаторы-собственники, в представлении реформированного общества, стоят отныне вне всякой зависимости от организуемой массы. Их воля абсолютно автономна. В переводе на спиритуалистический язык, она имеет сверхземное происхождение; духовные субстанции могут быть лишь невольными, временными гостьями, пленницами и узницами материального мира. Существует где-то далеко за гранью этого мира особое царство – о котором примитивный полидемонизм не имел сколько-нибудь ясного представления – царство духов, царство «бытия», царство ноуменов, вещей в себе, вечных и неизменных (материальный мир – это мир переходящих явлений, феноменов, мир «становления»). – Когда же приходится духу с небесной высоты «падать» на землю и облекаться в одеяние плоти, он все-таки продолжает довлеть себе». Его связь с телом чисто внешняя, искусственная: в проявлениях воли и мышления он вполне независим от тела.
Власть духов над материей безгранична. Материя мертва без них; они – первопричина всего всего, происходящего в мире феноменов. Но только они не действуют уже так примитивно, непосредственно, как действовали духи эпохи полидемонизма. Объектом реализации организаторской воли служит уже не прежний хаос материальных явлений. Организаторы-собственники сконцентрировали, под эгидой своей собственности, административную власть над общественным производством, вступившем в период более высокого развития – большей соразмерности и согласованности трудовых процессов. Организаторской воле приходится проявляться уже не в бесконечной массе отдельных «индивидуализированных» актов. Теперь у ней значительно меньше точек ближайшего соприкосновения с материальным миром. Организаторам-собственникам принадлежит верховное руководительство в сферах производительности деятельности общества. Их воля, «дух» дает лишь толчок «материи». Существуют некоторые общие законы, которые имманентны миру явлений. Правда, в свое время эти законы были установлены актом потусторонней воли, но затем они сохраняют свою силу навсегда и не требуют для своего проявления каждый раз особого вмешательства со стороны «потусторонних» субстанций.
Старая формула полидемонизма оказывается уже непригодной: она не отвечает тем изменениям, которые наметились в социально-экономической среде. Происходит то, что буржуазные мыслители называют вскрытием внутренних логических противоречий. Ставится знаменитый в истории философии вопрос об отношении бытия и становления: как возможно, чтобы из неизменной нематериальной субстанции происходило многообразие конечных вещей, преходящих явлений материального мира? Старое мышление, суммировавшее социально экономический опыт первобытных дикарей, признавало непосредственную тесную причинную связь и взаимодействие между означенной субстанцией и означенными явлениями. В том признании и стали усматривать теперь «противоречие». Мир феноменов не может быть непосредственно выведен из мира ноуменов: это величины абсолютно несоизмеримые.
Идеологам командующих групп приходится теперь ломать голову над теорией промежуточных, связующих звеньев.
VIII
Вот одна из попыток решения поставленного на очередь вопроса.
По учению греческого философа Эмпедокла, духи – «демоны» (daimonia), которые «падают» из царства богов в материальный мир и которых все элементы материального мира «ненавидят», оживляют материю при одном непременном условии: чтобы восприять в себя духовное начало, последняя должна быть известным образом уже организована: должна уже обладать способностью ощущения, восприятия мышления[44]. Только высокоразвитые, разумные существа получают привилегию стоять близко к «потусторонним» силам, считаться местопребыванием организаторской воли; только через них названная воля реализует себя в царстве преходящих явлений.
Философия Эмпедокла – плод общественной эволюции, шагнувшей сравнительно далеко вперед по пути дифференциации отдельных групп, по пути обострения их взаимоотношений. Она сложилась, как отзвук известного момента борьбы античной аристократии с античной демократией. Симпатии Эмпедокла на стороне последней: именно, как идеолог реалистически настроенной демократии, он, в своей философской системе, с особенной силой подчеркивал роль материального начала (его учение об «элементах») и приписывал телу часть функций, которая аристократическая традиция относила к «душе» (его утверждение: мышление есть не что иное, как «кровь сердца»). Несколько ниже мы остановимся на выяснении различия «аристократической» и «демократической» точек зрения на дух и тело, материю и источники движущей ее энергии. Здесь же мы ограничимся простым указанием на наличность известной классовой «подпочвы».
Система агригентского мыслителя выбрана нами, как пример, вводящий, так сказать in medias res, позволяющий рельефно оттенить сущность вопроса o «промежуточных звеньях». Выставляя необходимым условием реализации организаторской воли известную степень предварительной организованности материи, Эмпедокл тем самым констатирует существование двух разных организаторских центров. Промежуточные звенья – это не что иное, как особые opганизаторские ячейки, находящиеся относительно главных организаторских центров, главных ячеек, в положении известной зависимости.
До сих пор мы рассматривали организаторскую группу, взятую в целом, рассматривали ее, как некоторую однородную массу, – т. е. имели в виду исключительно общие интересы, отмечающие людей известного типа, роднящие их и, вместе с тем, противополагающие их другим социально-экономическим агрегатам. Теперь мы должны обратить внимание на особенности внутреннего строения названной группы. В ранние эпохи первобытной культуры – с которыми преимущественно нам приходилось иметь дело, организаторская группа представляла из себя социальное тело со слабыми признаками внутреннего расслоения. Если и намечалась некоторая иерархия организаторских функции, если главы отдельных родов присвоили себе некоторые привилегии, все же расстояние между «верхами» и «низами» групп было слишком незначительно. Даже тогда, когда отдельная община разрасталась в целое племя, начальник последнего не обладал никакими чрезвычайными правами, сравнительно с прочими старейшинами. Последовательно картина меняется. Как всякий общественный класс, как и всякая группа, группа организаторов выделяет, внутри себя, ряд ячеек и подъячеек, осуществляющих общегрупповые тенденции не одинаковыми путями и не в одинаковой степени. Прежде всеми коммерческими, индустриальными, земледельческими операциями общины заведовали одни и те же лица. Процесс развития производства, на который мы указывали в предыдущей главе, усиливая позицию организаторов, разграничивая все более и более организаторов и организуемых, в тоже время обусловливал собою дифференциацию функций господствующей группы. В рамках последней, между «верхами» и «низами» нарастает постепенно удлиняющаяся лестница нисходящих ступеней. Между организуемой массой и главными организаторами, ведающими общее руководительство социально-экономической жизнью данного клана или племени, стоят, в иерархическом порядке, те, кто распоряжается отдельными областями производственной деятельности и кто стоит во главе хозяйственных ячеек, фиксировавшихся вокруг определенных видов собственности на средства производства (во главе родов и семей).
Это обстоятельство, будучи преломлено сквозь призму сознания идеологов командующих групп, служит фундаментом для решения вопроса о «звеньях». Естественно, решения предлагаются разные, смотря по тому, к какой «ячейке» принадлежит тот или другой идеолог. Чем «ниже» ячейка, чем ближе она к «материальному» миру – в организуемой массе, тем большая роль самодеятельности признается за «материей», тем яснее автократичным обрисовывается духовное начало. Наоборот, идеолог ячейки, занимающей одну из высших ступеней иерархической лестницы, в своем высокомерном отношении к презренной материи и даже к организаторским «низам», обязательно построит свою систему на апофеозе верховных потусторонних субстанций, которые, через посредство послушных им духов, полновластно распоряжаются миром феноменов, как ареной для осуществления своих предопределений.
Агригентский мыслитель жил в эпоху, когда дифференциация организаторских рядов имела за собой уже долгую историю. В греческих городах данной эпохи командующий класс не только расслоился на небольшие клетки и подклетки: более того, – друг другу противостояли, как аристократия и демократия, организаторы-землевладельцы и организаторы-промышленники и торговцы. Эмпедокл, следуя традиции рода, из которого происходил, держался, повторяем демократических взглядов. Демократия являлась сравнительно юным отпрыском командующего класса, она сформировалась из слоев, стоявших в зависимости от аристократии, принимавших более непосредственное участие в производстве «материальных благ», чем высокородные представители землевладельческой культуры. Отсюда симпатии идеологов-демократов к материализму. Именно, как демократ, Эмпедокл признавал за материей многое такое, в чем ей упорно отказывала предшествовавшая и современная ему аристократическая метафизика.
Говоря о способности материи организоваться, он имел в виду не что иное, как организаторский центр демократии. Правда центр этот является подчиненным другому высшему центру: последовательным материалистом Эмпедокла назвать отнюдь нельзя. Его идеология – не прямолинейна-демократична; он, в сильной степени, находится под влиянием идеологических форм, установленных организаторами старого типа. Но уже и то новое, что заключалось в его философской системе, было значительным шагом вперед.
Было бы весьма интересно и поучительно проследить на примере греческой философии – эта философия дает как раз богатый материал для подобного социологического исследования – историю постепенного развития и борьбы «аристократического» и «демократического» представлений о духе и теле, о бытии и становлении. Но этого в пределах настоящей статьи мы сделать не можем. Ограничимся уже приведенным примером и еще одним, не менее ярко иллюстрирующим нашу мысль, взятым из цикла идеологических построений другого лагеря.
Проникнутый аристократическими симпатиями автор «Филеба» и «Федона» своим учением об «идеях» доводить апофеоз нематериального начала до высшей точки, какая была известна античному миру и в века первобытной культуры. Идея – абсолютная первопричина земного мира. Если среди явлений последнего мы подмечаем некоторую связь, которую спешим назвать причинностью, то все же мы не должны заблуждаться относительно истинного характера этой причинности: настоящих причин, по убеждению Платона, в мире преходящих явлений нет и не может быть: то, что мы здесь считаем причинами, не более, как сопричины (synaitia), содействующие, соподчиненные причины. Верховное начало всех вещей и «начало всех начал» – идее блага (мировой разум). Она – цель, которой, в конечном счете, все подчиняется. Она управляет самым царством идей. Это – царство строго проведенной иерархии. Таким образом, высший символ организаторской воли, высшее божество – «идее блага» преподает свои директивы миру через длиннейший ряд, промежуточных звеньев.
Низшим элементом мира, организуемым материалом является «несущее». Философ-аристократ определяет его исключительно, как отрицательную величину, как крайнюю антитезу «бытию», как нечто, лишенное всякой формы. Первое организаторское звено – вне этого «несущего»: «несущее» организуется воздействием математических формул. (Последним приписывается та роль, какую мы отмечали в свое время[45], – роль божественных, обладающих творческой силой субстанций). А математическими формулами дирижирует сама идея. В организованный таким образом мир явлений попадают души. Они – не тождественные идеям, но производные от последних субстанций. Их предназначение – находиться в потустороннем царстве и «созерцать первоисточник всего сущего и всего пребывающего. Но будучи заключены в телесную оболочку, они подвергаются влияниям эмперического мира: освобожденные из своей темницы, они оказываются не в состоянии подняться до эмпиреев своей родины, вновь падают на землю, вновь начинают земное странствование и т. д. Возможность подобных злоключений души объясняется из ее организаций. Для Платона понятие о душе – не простое понятие. Его душа состоит из трех частей: управляющей (разумной) – hegemonicon, активно-чувcтвующей (thymoeides) и похотливо-чувственной. Части эти борются между собою, стараясь увлечь душу каждая на свой путь. «Разумная» часть находится в непосредственном общении с миром идей. Победа ее знаменует восхождение к эмпиреем, свободу от необходимости пребывать в царстве явлений. Другие части приковывают уроженку неба к земле.
Три части души соответствуют трем классам, на которые, по воззрениям Платона, распадается общество: разумная – соответствует классу мудрецов – активно-чувствующая – классу воинов, похотливо-чувственная – классу представителей физического труда (земледельцев и ремесленников). В своем учении о душе автор «Филеба» и «Федона» суммировал свои социальные взгляды.[46]
На вершине трехъярусной пирамиды его «идеального» государства стоит немногочисленная кучка философов-архонтов: это чистый тип организаторов, существующих на те продукты прибавочного труда, которые вырабатываются обитателями нижнего яруса, составляющими главную массу населения пирамиды. – Вся жизнь и деятельность государства, во всех деталях регулируется философами. Им одним доступна «истина», они одни могут проникать своим умственным взором на грань преходящих явлений, могут быть свободны от всяких земных веяний. Это значит, что верхний ярус пирамиды и нижний ярус ее бесконечно удалены друг от друга, что организаторы– философы и организуемые чернорабочие – существа, сотворенные из совершенно разных субстанций. Если философы – носители высших нематериальных начал, то обитатели нижнего яруса, занимающиеся трудом, не достойным, с аристократической точки зрения, свободного человека, – воплощенная чувственность. Их внутренний мир – беспомощная жертва похотей и вожделений: для проявления каких-нибудь активных духовных сил он закрыт («активность» не свойственна организуемым). Единственная добродетель, которая им доступна, по мнению Платона, и которая требуется от них, это – воздержание, т. е. способность держать себя в границах, предуказанных «организаторской волей», подчинение последней.
Свою волю философы-архонты осуществляют в мире «чувственности» непосредственно. Для этой цели имеются воины, населяющие средний ярус пирамиды. Это тоже организаторский центр: представителям его присуща известная степень активности; но их «воля», выражаясь языком платоновской метафизики, не может считаться настоящей причиной явлений, наблюдаемых в среде организуемой массы; это воля представителей подчиненного центра. Стоя за пределами «организуемой массы», воины все-таки связаны с ней, довольно близки к ней. «Чувственность» не чужда им, но только это чувственность высшего порядка. Она характеризуется такими актами, как подвиги мужества.
Таковы данные, на основании которых Платон построил свою психологическую систему. Он наделил душу одновременно теми качествами, какие, в его глазах, отличали психику разных общественных типов.
Понятие об «организующей» субстанции, об организующей воле, таким образом, расчленилось. Душа сделалась ареной столкновения противоположных сил. Мало того. В противоречии с основной предпосылкой платоновского – и вообще аристократического – миросозерцания, приводившего все и вся к одному знаменателю, признававшего единый первоисточник сущего и пребывающего и упорно отказывавшегося усмотреть в организуемой материи малейшие проблески волевой деятельности, способности организоваться, – в противоречии с этим одним из элементов организаторской субстанции – души объявлялось «вожделение», отличительное качество представителей общественных низов. Организуемые получили право на участие в организаторской работе. Презренная «материя» вторглась в заповедную позицию «духа».
В действительной жизни Платон не находил того распределения общественных сил, какое считал идеалом. Его организаторы-автократы не были облечены государственной властью. На исторической сцене с успехом подвизалась греческая демократия, захватывавшая в свои руки верховные организаторские функции. Ее торжество, в глазах аристократически настроенного мыслителя, знаменовало собою торжество низменных, чувственных, материальных начал: она причислялась автором «Государства» к обитателям нижнего яруса пирамиды. Но вместе с тем никак нельзя было закрывать глаза на ее организаторскую роль. И Платон принял ее в расчет, когда создавали, свою концепцию об организаторской воле.
Его концепция о душе, другими словами, «отражала» далеко не те социальные отношения, какие должны были возникнуть в проектированном им идеальном государстве: строгая централизация распорядительских функций, положенная в основание означенного государства, исключает возможность представления о «душе», являющейся ареной внутренних междоусобий и слишком часто подпадающей под власть низменных инстинктов. В идеальном платоновском государстве торжество низов над верхами немыслимо. Общественным отношениям, установленным в Атлантиде, соответствовал бы идеал неделимой, недоступной никаким комбинациям, непогрешимой духовной субстанции. На самом же деле, разрабатывая свое учение о душе, Платон соображался с тем соотношением общественных сил, какое ему пришлось наблюдать в реальной жизни. Рельефно подчеркивая свои социальные симпатии, окружая ореолом недосягаемого величия своих фаворитов-носителей идеальной организаторской воли, он, в тоже время, вопреки своим симпатиям, принужден был отметить значение и успехи выходцев «чувственного мира».
IX
Итак, – резюмируем в нескольких словах содержание двух последних глав – понятие о «духовном начале» сложилось на фоне отношений между организаторами и организуемыми. Оно есть не что иное, как понятие об организаторской власти, организаторской «воле». В связи с изменениями, имеющими место в жизни организаторских центров, оно, в свою очередь, подвергается изменениям. Установленная точка зрения объясняет ту громадную ценность, какую командующие классы придают созданному ими абстрактному понятию, объясняет то изумительное упорство, с каким они отстаивают это понятие против всяких агрессивных шагов критики. Командующими классами, в данном случае, руководят интересы самосохранения. Критически относиться к доктринам спиртуализма значит критически относиться к главенствующим организаторским центрам. Раз возникает критика, это свидетельствует о том, что главенствующий организаторский центр начинает терять почву под ногами, что ему приходится иметь дело с серьезным оппонентом – с известной общественной группой, преследующей диаметрально противоположные материальные интересы, успевшей в сильной мере окрепнуть, решившейся открыть военные операции. Духовную субстанцию нельзя считать чем-то безусловно самодовлеющей; напротив, она есть нечто зависящее от чувственных, материальных элементов: «свобода воли – миф», так формирует, на первых порах, означенный оппонент свое революционное настроение. Занятая им позиция отнюдь не говорит о радикальном решении вопроса. Компартия только что началась, до решительного наступления еще далеко. Идеология наступающей общественной группы еще определяется в известной степени, разными переживаниями старого социально-экономического строя. И все же приведенная выше формулировка выражает весьма неприятное для существующего организаторского центра требование. Она гласит: существующие организаторы не могут действовать автократически, они зависят от организуемых, т. е. должны подчиняться последним.
Припомним ожесточенные философские споры о роли духовной субстанции и о свободе воли, какие велись, напр., на закате средневекового феодализма. Понятно, почему системы, развивавшие охарактеризованные выше «умеренно-конституционные» взгляды, объявлялись ересью, а их авторы – идеологи нарождающейся буржуазии – изменниками отечества.
Наступающая группа развивается. Эволюция техники все более и более углубляет пропасть, лежащую между нею и господствующим организаторским центром, все более и более делает непримиримыми их классовые интересы, все более и более проясняет классовое сознание представителей новой общественной силы. Соответственно этому, идеологи последней повышают тон своей критики, все резче и резче подчеркивают значение материального начала, все меньшую и меньшую долю влияния признают за духовной субстанцией, последовательно доходя до ее полного отрицания. Момент наибольшего напряжения боевой энергии новой общественной силы, момент решительного наступления – есть момент создания материалистических систем. С проповедью материализма выступали, напр., идеологи греческой демократии V–IV века до Р. X., с проповедью материализма выступали также идеологи английской буржуазии XVII в. и французской буржуазии XVIII в. и французской буржуазии XVIII в.
Наконец, победа одержана. Наступавшая группа водружает свое знамя на занятых ею неприятельских позициях. И тут… происходит нечто на первый взгляд весьма странное и удивительное. Вместо полного торжества материалистического мировоззрения, торжества, которого следовало ожидать, судя по дореволюционным заявлениям идеологов нового класса, наступает эпоха «линяния» материализма. Намечается поворот назад. Сначала робко, затем все решительнее и решительнее высказываются симпатии к старой идеологии, к идеологии побежденного противника. «Храм оставленный, все храм, кумир повергнутый – все бог!» Воскресает абстрактное мышление, метафизика, спиритуализм. Так, европейская буржуазия давно похоронила свой радикальный материализм, под знаком которого она вела борьбу с переживаниями феодального режима, и теперь, в дни своего господства, она стоит под знаком идеалистической реакции.