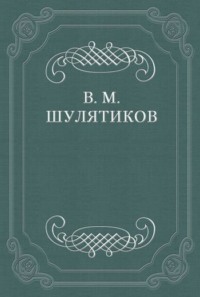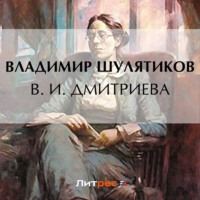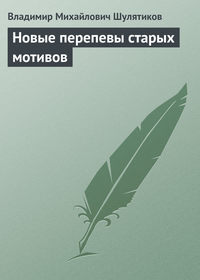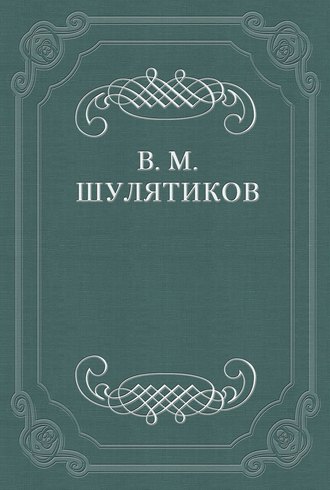 полная версия
полная версияИз теории и практики классовой борьбы: Происхождение командующих классов. Основы их идеологии. Вопрос об интеллигенции.
И это далеко не единственный, далеко не самый важный для них патент. Реальная сила его не велика, сравнительно с тем, что дают им привилегии вершить суд.
В ранний период истории первобытного общества, при совершении преступления, в дело мог вмешиваться каждый член общины. Это значило, что преступление касается всей данной социальной группы (рода, клана, племени). И на каждом члене общины лежали юридические обязанности – каждый член общины должен был, при случае, брать на себя роль заступника общих интересов, в той или иной форме поправлять вред, причиненный общине преступлением. Под самым преступлением понимали нечто совершенно иное, чем теперь. Элемент ответственности не входил в содержание означенного понятия. Оно не было затемнено позднейшими наслоениями, а схватывало именно то, чем преступление является по существу. Выражаясь древнеиндийским термином, преступление – это aparadha – непорядок, т. е. нарушение установленного порядка производственного процесса и обусловленных этим процессом «организующих» норм (имущественных, семейных, религиозных, даже эстетических). Например, нарушение ритма хоральной песни или пляски являлось aparadha (и, прибавим, в некоторых общинах каралось смертью). Хотя за свой проступок виновный нравственно не отвечал, тем не менее, он платился за него. – Опять таки это не было наказание в современном смысле юридического термина, просто удаление элемента, вносящего в ход общественно-экономической жизни беспорядок. Удаление – простейший, естественный способ самозащиты первобытной группы.
Так было до авантюристического выступления организаторов. Затем начинается радикальная перестройка всего здания юридических отношений. Похитители средств производства похищают у общинников права на вершение суда и расправы. Правда, еще раньше община возложила на них юридические функции. Но это вещь иная: никакой монополии не было места, участие общинников в «расправе» отнюдь не исключалось, речь шла не об «абсолютных» правах, юридической власти не существовало. Теперь, помимо всего прочего, наряду с созданием юридической власти, возникает институт власти законодательной. Затем реформируется понятие преступления и наказания. Если раньше преступление почиталось чем-то стихийным, своего рода болезнью[30], которая обусловливается не внутренними, а внешними причинами, за которую преступник не несет «ответственности», теперь постепенно вводится понятие о внутреннем источнике преступления, о злой воле. Преступления начинают квалифицироваться, как преднамеренные и непреднамеренные, вольные и невольные. Преступник признается несущим ответственность. Сначала он отвечает перед целым родом, или целой общиной (отголосок воспоминаний о коммунальной собственности на средства производства). Затем устанавливается мал помалу новый принцип: совершивший преступление совершил его против организаторов, «согрешил» перед ними. Дальнейший этап развития юридических основоположений: ответственного перед ними преступника организаторы могут миловать или не миловать по своему усмотрению. В прежние времена судьи не имели права освободить нарушителя «порядка» от кары; кара – дело общины, определяется интересами последней. Теперь – на первом плане интересы частных собственников средств производства: кара зависит от частных интересов. Право на наказание индивидyaлизиpуeтcя.
Мы должны остановиться на крупном моменте охарактеризованной эволюции – на новоявленном понятии о злой воле. Необходимо выяснить его социально-экономическую родословную. Прежде всего – «воля»: откуда взялось это понятие, само по себе, без отношения к сопутствующему ему определению «злая»? Оно принадлежит к категории таких понятий, как душа, первопричина, двигающая сила, сложившихся в атмосфере «авторитарного мышления»[31]. Как все эти родственные между собой понятия, «воля» указывает на личность организатора, суммирует отношения организующих с организуемым. Воля – это направляющая, регулирующая, распоряжающаяся психика представителя командующего центра. Обладать волей, – в сущности, составляет привилегию организаторов. Но обладать злой волей, т. е. волей, вносящей беспорядок и расстройство в область данной системы производства, было бы для организаторов крайне невыгодной привилегией. Правда, на первых порах возникновения организаторской группы, тогда, когда организаторские посты были выборными и организаторы не являлись существами «высшего типа», – действительно, неудача того или иного предприятия ставилась в зависимость от умелости и распорядительности вожака. Вожака «удаляли». С постепенным ростом общественного значения организаторов, роль последних, в данном отношении, начинает становится довольно щекотливой. Воле старейшины и главы рода или клана приписывают все нежелательные явления, происходящие в недрах организуемой ими социальной ячейки. Кто принимает на себя организаторские полномочия, тот тем самым берет на себя задачу не допускать никаких аномалий в жизни первобытного общества: в этом и заключается сущность его деятельности. Постепенно общество раскалывается на две части: инертную, неспособную самостоятельно действовать, – по господствующему представлению – рядовую массу и носителей творческого начала, двигающей силы – организаторов собственников. Все, что происходит в жизни общества, происходит по воле последних. Они всемогущи. Все «добро, слава, дела», характеризующие степень преуспеяния и благоденствия данной общины, – результат их направляющей воли, принадлежит им. Но палка оказывается о двух концах. Всемогущие, они обязаны естественно, принять на себя и все «темные деяния» и все несчастия, имеющие место в подведомственной им общине. Виновники «добра» должны быть и виновниками «зла». Общинники терпят на войне жестокое поражение: побежденные обвиняют в неудаче своих вождей. Заразная болезнь, мор свирепствует среди общинников: согласно всеобщему мнению, это боги послали наказание за «грехи» организаторов. Страдает община от недостатка пищевых продуктов, малоуспешно идет общинное производство – опять замешана «воля» тех, кто стоит на верху социальной лестницы. Совершит кто-либо из членов общины тяжкое нарушение установленных норм общежития и тут дело не обходится без нареканий на организующую «волю».
Всюду эта «воля»! Она – источник всего происходящего; прежнее представление о стихийном преступлении, стихийном грехе, приходящем извне, отныне устарело. Отныне причина, корень «зла» лежит в личности человека, отныне отдельная особь несет ответственность за совершаемое ею. Но организаторы, естественно, недовольны подобным расширением «прав» своей личности. Они согласны удовлетвориться частью привилегии, приобретенной или вместе с приобретением средств производства, – привилегии на всемогущество, а кое-что переуступить рядовой массе. Олигархи, они выступают в данном случае защитниками реформы в демократическом духе.
Ормузд отделяется от Аримана, Бог от дьявола. Слагается дуалистическая теория: добро и зло признаются началами совершенно разного порядка. Это значит, что в организаторской воле они не совмещаются. Царство зла, греха, преступления – вне организаторской группы. Организатор ответственности за совершаемое в его общине зло не несет. Он должен лишь очищать общину от последствий зла (творя суд, принося искупительные жертвы или просто посылая моление своим богам): это в его власти и должно составлять его привилегию. Этим ограничиваются его отношения к проявлениям «aparadha». Что же касается ответственности за различные нарушения порядка и гармонии социально-экономических норм, усвоенных общиной, то подобная ответственность предоставляется теперь каждому члену рядовой массы. «Демократизация» преступления, конечно, осуществилась не сразу, а проходила последовательные этапы развития. До сих пор господствующим классам не суждено видеть окончательного торжества выдвинутого ими идеала: часть рядовой массы, лишенная гражданских прав, до сих пор считается лишенной, одновременно, и «права на преступление» (напр., несовершеннолетние в известных случаях). Но, как бы то ни было, означенное «право» было переуступлено древними организаторами-собственниками общинникам. За рядовым общинником, который считался инертным существом, не обладающим способностью действовать по своей инициативе, без внушения свыше, теперь признается, в известных случаях, личность: он, оказывается, может проявлять свое «я», свою волю. Только эта воля непременно должна быть злая. Творцами бора простые смертные по-прежнему быть не могут. Все доброе устрояется по-прежнему попечением и помышлением организаторских верхов.
Конечно, если бы организаторы занимали ту позицию, которая им принадлежала в начале, если бы они чувствовали себя представителями общинной массы, подобная теория не могла бы сложиться: они не тяготились бы возложенною на них «ответственностью», не пытались бы снять ее с себя. Что являлось бы злом для общины, являлось бы злом и для них. Но интересы общины давно перестали быть интересами организатора. Организатор давно идет своей дорогой, осознает себя чуждым тех общих стремлений и забот, которые волнуют рядовую массу. Собственность на средства производства диктует ему иные, диаметрально противоположные задачи. Зачем же, на самом деле, ему брать на себя «ответственность» за то, что так чуждо его интересам? После того как он овладел средствами производства, отношения между членами общины начали осложняться, количество «зла» начало увеличиваться с возрастающей прогрессией. Некогда призванный регулировать ход производственного прогресса, направлять его так, чтобы соблюдалась наибольшая экономия и продуктивность работы, теперь он, со своими «правами» собственности играет роль камня, лежащего на пути этого процесса. Он тянет назад, к старым формам техники, которые в свое время оправдывали его существование. Ему трудно приспособиться к новым техническим методам, в десятки раз труднее, чем любому рядовому общиннику. Он, в сущности, уже не организатор, а дезорганизатор. Прогрессивное техническое развитие и с ним прогрессивное развитие общественной жизни в ее различных проявлениях («надстройках») обходит его. Регулировать производство он уже не может. Повторяем, он лишь старается приспособить новую технику к старым формам, а подобное урегулирование означает не что иное, как внесение беспорядка в хозяйственную деятельность рядовой массы. Один из актов подобного урегулирования – это охрана захваченной у общины собственности. ІІриходится отстаивать собственность от всякого рода посягательств со стороны, приходиться бороться против остатков коммунистических обычаев, против действий общинников, которые в отдельных случаях никак не могли усвоить принципа неприкосновенности перешедших в частное владение орудий и продуктов. Вот эта борьба и является решающим моментом в процессе разграничения «доброй» и «злой» воли: именно она побудила организаторов категорически отречься от части «прав на всемогущество».
На самом деле, брать на себя ответственность за все нарушения социально-экономических норм, значило, помимо всего прочего обвинить себя в преднамеренном противодействии собственным интересам, квалифицировать себя, как врагов самим себе. Посягательств на собственность, присвоенную организаторами, последние никак не могли приписать своей «воле». Эти посягательства, в глазах организаторов, несомненное «зло», «aparadha», согласно установившемуся уже тогда воззрению, предполагает действие активной двигающей силы – чьей-нибудь воли. А раз так, приходится усмотреть в представителях рядовой массы носителей означенной силы. При этом заключение о наличной воле у представителей рядовой массы сделано на основании фактов одного порядка: «рядовики» выступают самостоятельно, вне зависимости от воли организаторов, – так последние рисуют себе картину социальных отношений – только тогда, когда противоречат интересам захваченной собственности; в остальных случаях организаторы видят прежнюю инертную, лишенную инициативы массу. Отсюда вывод: простые смертные обладают односторонне развитой волей; воля эта направлена против организаторов; следовательно она злая и только злая.
Переступая, таким образом, «злую» волю, оставляя за собой монополию на волю добрую, организаторы объявляют себя единственными охранителями и единственными созидателями правовых норм. Рядовику, которому отказано в праве считаться «полным» человеком», полною личностью, отказывают в способности различать справедливое и несправедливое. Он не может знать закона, а если, паче чаяния, вздумает изучать последний, то подобное занятие, – выражаясь языком древнеиндийских законодателей, – «плода ему не принесет». Знанием закона может обладать только «хорошо рожденный», только он может быть «ведающим справедливое» dhаrmаvid.
VI
Этого мало. Вообще «знание» составляет привилегию командующих групп.
Судре, члену низшей из индийских каст, запрещено раскрывать священные книги вед; нарушающий подобное запрещение совершает великий грех[32]. Суть, конечно, не в религиозном характере запрещения. Веды – сокровищница мудрости, накопленной господствующими кастами, плод их организаторского опыта. Правда, это мудрость сравнительно позднейшей редакции, плоды опыта, суммированного весьма односторонне: многого из тех знаний, которые усвоены были организаторами при выполнении ими их прежних полномочий и которые в свое время оправдывали их существование, являлись необходимым элементом экономической системы первобытного общества, ведийские гимны не сохранили. Тем не менее, открыть судрам доступ к сокровищнице ведийской мудрости, «благородные» не могли: это значило отдать побежденным и покоренным часть выкованного против них оружия.
Первобытные организаторы – первые представители умственного труда, с их выступлением начинается история интеллигенции. Распорядитель производства должен был обладать значительной суммой различных знаний: он совмещал в своем лице одновременно функции и военачальника, и судьи, и жреца, и инженера, и медика, и поэта… Постепенно совместительство столь разнообразных профессий становилось затруднительным, обязанности начали распределять между отдельными лицами. Совершается процесс демократизации знания, но процесс этот далеко не заходит. Образуется иерархическая лестница организаторских постов. Старейшина (патриарх) поручает нести часть лежащих на нем обязанностей главам родственных семейств; те, в свою очередь, уполномачивают своих родственников и т. д. Наклонная плоскость, по которой звание интеллигента катилось с вершины социальной пирамиды, не опускалась до рядовой массы. Завладевшие средствами производства не выпускают из своих рук организующей силы, – знания, – которой они обязаны своим первоначальным выступлением.
Эта сила грозит ускользнуть от них. Технический прогресс, хотя и задерживаемый в своем развитии, создает новое знание, требует большей дифференцировки интеллектуального производства, более широких кадров интеллигентных работников, ставит перед последним усложненные задачи. Организаторские верхи не в состоянии удовлетворить подобным требованиям, ответить подобным задачам: они как нами отмечалось выше, слишком для этого консервативны, их психика слишком трудно поддается ломке. И им приходится защищать старое знание и вести упорную борьбу с «новыми словами» в области интеллектуального труда. Таковы предпосылки их обскурантизма.
Но, обскуранты, они энергично отстаивают свои права на знание и идею его всемогущества. «3нающий веды является властителем всей земли[33]. Действительно, в продолжение весьма продолжительного периода, обладать знанием значит принадлежать к господствующим группам, понятие интеллектуального труда, покрывается понятием социально-политической власти. И впоследствии, когда произошло разграничение этих понятий, когда собственники средств производства признали соответствующей своим интересам переуступку некоторой части прав на знание выходцам из рядовой массы, когда на исторической сцене появились интеллигенты, собственностью на «материальные» средства производства не располагающие и отдающие свой труд за плату, – призрак былого величия все-таки продолжал витать долго перед различными слоями интеллигенции. То и дело воскрешалось учение о благородном умственном труде, об избранниках интеллигентах, аристократах духа, перед авторитетом которых должны преклоняться и трепетать представители низших каст, люди физического труда, «тупой, бессмысленный, непросвещенный народ» – учение, переданное в наследство от первобытных времен. Мы сталкиваемся с ним и в античной древности, и в средневековье, и в эпоху Ренессанса, и в новой истории.
Приведем несколько примеров, назовем несколько систем, содержащих апофеоз власти, утерянной интеллигенцией. Таково, например, пифагорийское учение. Как известно, знаменитая пифагорийская община должна была, но идее своего создателя, осуществить идею самодержавия интеллигенции. «Аристократы духа» составляли союз, которому слепо должно было повиноваться все остальное население греческих городов. Основанием подчинения являлось безусловное поклонение умственному авторитету. Утопист Платон на верху социальной пирамиды своего идеального государства поставил замкнутую касту начальников (aрхонтов) – мудрецов. В своих видениях идеального царства Франциск Бэкон рисовал великолепный дворец – дом Соломона, населенный всемогущими носителями интеллектуальной «силы»: этот дворец – центр жизни всей фантастической общины. Монах Томазо Кампанелла, вдохновленный ясно выраженными демократическими симпатиями, не устоял против искушения и в свою очередь заплатил дань учению об автократии интеллигенции. Правда, часть организаторов-интеллигентов, в его утопическом Солнечном государстве, выбирается народным голосованием, но истинные главы государства, верховный первосвященник Гог и три верховные организатора, носящие имена Мудрости, Силы, Любви, являются представителями невыбираемой и несменяемой власти. Из новейших более ярких апологетов власти духовной аристократии упомянем Эрнеста Ренана, мечтавшего о царстве мандаринов, и Фридриха Ницше с его идеалом великого мудреца, царственного «белокурого зверя» – сверхчеловека, долженствующего явиться в итоге круговорота всемирной истории и воплотить в своем лице всю «мощь» человечества.[34]
Такова живучесть традиций древней культуры автократов-организаторов.
VII
На известной стадии развития – именно тогда, когда средства производства провели резко разграничительную грань между приказывающими и исполняющими, – понятие об организующей воле перерождается в понятие о духовном начале[35].
Вождь – организатор оказывается наделенным чудодейственною силою: он, пo представлению первобытного общества, властен распоряжаться не только действиями членов подведомственного ему рода или клана, но и окружающей природой. За каждым явлением природы стоит личность организатора, незримо дирижирующая. Ветер, вода, огонь – все это «theria empsyca» – одушевленные существа. Таковыми признают их верования первобытной общины, таковыми признает их мифология народов, вступивших на путь дальнейшего культурного развития, таковыми признает их зарождающееся философское мышление[36]. «Все полно богов (духов)». Даже таким веществам, как например, магниту, еще на памяти истории натурфилософии, приписывалась наличность организаторской воли, «души»[37]): столь последовательно проводился взгляд, согласно которому всякое действие, всякое движение совершается по плану, по приказанию, по слову «распорядителей».
То же самое и относительно человеческого тела: и оно отнюдь не взято из подчинения общему закону. Те части и органы тела, которые считаются источниками рабочей энергии, направляемой на производство общественно полезных продуктов, объявляются скрывающими в себе нематериальные субстанции. Тело оказывается населенным целым рядом духов: существуют «души» рук, головы, ног и т. д. До понятия об общем духовном центре человеческого тела, на первых порах, мышление не доходило[38].
Равным образом и во внешней природе сознание видело арену воздействия множества отдельных нематериальных субстанций. Так, например, каждая река имеет своего специального духа, каждое дерево своего; один бог олицетворяет собою движущую силу северного ветра, другой – южного, третий – восточного; одна порода животных представлена одним богом, другая – другим.
Подобный факт объясняется сравнительно слабой степенью организованности общественного производства. Каждый рядовой член первобытной общины выполняет попеременно различные трудовые процессы. Несовершенство его орудий ведет к тому, что каждая малейшая разновидность добываемых им продуктов требует от него различного применения его рабочей силы, специальных приёмов и специальной ловкости: одно дело для него сбор плодов одного дерева, другое дело – сбор плодов другого дерева; одно дело охота за одним животным, другое дело охота за другим животным. Соответственно этому, его сознание располагает крайне скудным запасом общих («родовых») понятий. Выполняемые им трудовые процессы выступают в его сознании как разрозненные, независимые друг от друга акты. Жизнь для него ряд отдельных моментов, природа – ряд отдельных феноменов.
Итак, организаторская воля реализуется в хаотической массе разнородных явлений, имеющих место в жизни организуемого общества и эксплуатируемой природы: вот основная формула первобытного «полидемонизма». Отмеченные особенности «полидемонизма» (веры в существование «многих демонов-духов») дают ключ к пониманию той «путаницы понятий», которая так часто приводила в отчаяние историографов первобытной культуры и признавалась ими неподдающейся строгому научному учету – той «путаницы понятий», при которой «люди, звери, растения, камни, звезды – все считаются стоящими на одном уровне, все кажутся в одинаковой мере и индивидуальными и одушевленными»[39].
На самом деле, эта «путаница» говорит о своебразной систематизации приобретенного жизненного опыта; на самом деле, первобытный дикарь таким путем, как никак, старался внести некоторое единство в картину мира, какая рисовалась его сознанию. Представители всех царств природы оказывались тесным образом, связанными друг с другом, поставленными, так сказать, на одну дорогу. Связывающий, уравнивающий элемент – воля организатора. Пусть мир материальных явлений хаотичен, пусть, параллельно ему, существует многообразие индивидуальных духовных субстанций: но все эти субстанции однородны, все они, в конечном счете, не что иное, как проявление одного, порядка. Если понятие организующей воли, в известной степени абстрагировалось, если понятие духа такого-то дерева, такой-то реки, такого-то животного уже не совпадает с понятием о личности данного организатора, мыслится, как нечто ему не имманентное, – это обстоятельство отнюдь не говорит, что генетическая связь между означенным духом и означенным организатором, в сознании первобытных дикарей, потеряна. Организатор является единственным посредником между духом и людьми, может оказывать то или иное воздействие на духа, например, заговорить его, запретить ему совершать те или иные акты, или, напротив, побудить его к известным актам: он, по представлению дикарей, властвует над духами и состоит с ними в ближайшем родстве. После своей смерти он, обычно, превращается в какого-нибудь духа. А при жизни он творит великие чудеса.
«В Австралии, в Новой Каледонии, в Новой Зеландии, в Северной Америке, у зулусов, у эскимосов и, вообще, во всех странах света им (т. е. вождям и шаманам-колдунам)[40] приписывается власть вызывать духов или спускаться в их местопребывание. Люди, пользующиеся этим преимуществом, могут также сами обращаться и превращать других в животных. Они даже повелевают атмосферическими явлениями. На них смотрят, говорит старый французский миссионер, «как на настоящих Юпитеров, держащих гром и молнию во своих руках». От них зависит хорошая или дурная погода, они надзирают за громадными животными, которые у древних персов и арийцов Индии также, как у зулусов и ирокезов, посылают или задерживают дождь и производят гром, двигая огромными своими крыльями в облачном пространстве[41]. «Вождь племени может превратить ее во льва, убить таким образом, кого хочет и вновь принять свой обычный вид[42].
Все «материальное», все «телесное» играет роль орудия в руках организатора. Одухотворяя все своей волей – непосредственно воплощая (интроецируя) ее в те или другие объекты, те или другие тела или же пользуясь опосредствованными формами «интроекции»; абстрактными понятиями, оставленными ему в наследство от предыдущих поколений организаторов, – наш организатор разрушает, в представлении первобытного общества, качественные различия между разнородными феноменами «материального» мира. Через понятие о всюду могущей проявляться организаторской воле первобытный дикарь приходит к убеждению, что тела и предметы могут менять свой внешний вид, переходить из одного состояния в другое, подвергаться метаморфозам. Человек может преображаться и в животное, и в растение, и даже в камень, – и наоборот. Отсюда ведут свое начало всевозможные мифы, легенды, сказки о превращениях.