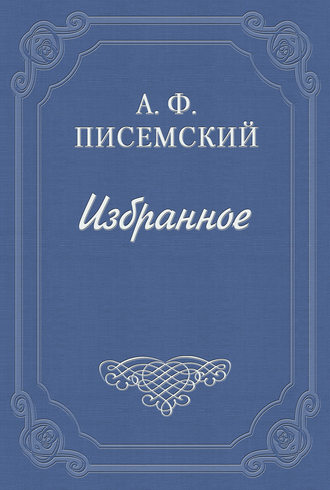 полная версия
полная версияМасоны
После речи Батенева устроилось путешествие, причем снова была пропета песнь: «Отец духов, творец вселенной!», и шли в таком порядке: собиратели милостыни (Антип Ильич и Аггей Никитич) с жезлами в руках; обрядоначальник (доктор Сверстов) с мечом; секретарь (gnadige Frau) с актами; оба надзирателя со свечами; мастер стула тоже со свечой. По окончании шествия обрядоначальник положил знак умершего на пьедестал, а великий мастер сказал:
– Брат первый надзиратель, который час?
Ответ. Полночь.
Великий мастер. Время ли закрыть ложу?
Ответ. Время, почтенный мастер.
Великий мастер. Брат первый надзиратель, не имеет ли кто чего предложить на пользу ложи?
Брат-надзиратель опросил братии и от всех получил в ответ только вздохи печальные, которыми как бы говорилось, что какую теперь пользу можно принести масонству, когда все в нем или задушено или предано осмеянию.
Великий мастер. Брат собиратель милостыни, исполняйте вашу должность!
Аггей Никитич, наученный Антипом Ильичом, пошел обходить с тарелочкой собрание; вклады нельзя сказать чтобы обильные были, и одна только Сусанна Николаевна положила на блюдо пакет с тысячью рублями.
После сего великий мастер произнес заключительное слово:
– Закрываю сию печальную мастерскую ложу именем всех высоких начальников ордена и особливо именем высокодостойного нашего старошотландского мастера со всеми честьми масонства!
Затем Сергей Степаныч громко и троекратно ударил эфесом висевшей на нем шпаги, вынимая оную до половины и снова опуская ее в ножны.
На другой день с раннего утра тело Егора Егорыча должно было следовать в Кузьмищево для погребения там рядом с родителями. Сусанна Николаевна хотела было непременно следовать за гробом; но как это до такой степени утомило ее, что, приехав в Москву, она едва ноги двигала, то Лябьевы вкупе с gnadige Frau отговорили ее от того, и сопровождать тело Егора Егорыча взялся Сверстов, а равно и Антип Ильич, который убедительнейшим образом доказывал Сусанне Николаевне, что зачем же ей ехать, когда он, Антип Ильич, едет, и неужели же он позволит, чтобы покойника чем-нибудь потревожили.
– Поедем как следует, тихонько, – объяснял Антип Ильич, – в селах, которые нам встретятся на дороге, будем служить краткие литии; в Кузьмищево прибудет к телу отец Василий, я уже писал ему об этом, а потом вы изволите пожаловать с вашими сродственниками на погребение, и все совершится по чину.
Сусанна Николаевна согласилась, наконец, выехать дня через два после отправления гроба, но все-таки эти два дня она ужасно волновалась и мучилась, сознавая, что ей не хотелось и было чрезвычайно грустно расстаться с Терховым. Читатель на первых порах, может быть, удивится; но, рассудив, поймет, что такого рода чувствование в Сусанне Николаевне являлось таким прямым и естественным последствием, что иначе и быть не могло. Вообразите вы себе одно: более года Сусанна Николаевна видела Терхова почти каждодневно, и он оказал столько услуг Егору Егорычу, что, конечно, сын бы родной не сделал для него столько. Изыскивая, как бы и чем помочь страдальцу и развлечь его, Терхов однажды привез к Егору Егорычу, с предварительного, разумеется, позволения от него, известнейшего в то время во всей Европе гомеопата-доктора, который, войдя к Егору Егорычу, первое, что сделал, – масонский знак мастера. Егор Егорыч, сейчас же это заметивший, ответил ему таковым же, а затем началось объяснение между доктором и его пациентом на немецком языке.
– Вы розенкрейцер? – спросил доктор.
– Был им прежде, но теперь мартинист.
Немец, кажется, не совсем понял этот ответ.
– Вы поэтому француз? – проговорил он.
– Нет, – возразил Егор Егорыч, – я хоть и мартинист, но мартинист русский.
Немец и этого ответа Егора Егорыча не понял и выразился по-немецки так:
– Я просил бы вас, почтенный господин, объяснить мне, кого вы называете русскими мартинистами.
– Я называю русскими мартинистами, – начал Егор Егорыч, приподнимаясь немного на своей постели, – тех, кои, будучи православными, исповедуют мистицизм, и не по Бему, а по правилам и житию отцов нашей церкви, по правилам аскетов.
Выражение «по правилам аскетов» гомеопат понял, но все-таки не мог уяснить себе, что такое, собственно, русский мартинизм, и хотел по крайней мере узнать, что какого бы там союза ни было, но масон ли Егор Егорыч?
– С восемнадцатилетнего возраста моей жизни масон! – воскликнул тот.
Удовлетворившись таким ответом, гомеопат стал расспрашивать Егора Егорыча о припадках его болезни, и когда все это выслушал, то произнес:
– Не позволите ли вы мне, почтенный господин, произнести над вами несколько магнетизерских манипуляций (ученый доктор был кроме того что гомеопат, но и магнетизер).
– С великим удовольствием, – сказал Егор Егорыч, всегда любивший всякого рода таинственные и малообъяснимые лечения.
– Лягте спокойнее! – повелел ему доктор.
Егор Егорыч вытянулся на постели и положил обе руки свои на подложечку: он желал одновременно с магнетизированием предаться «умному деланию».
Доктор сделал сначала довольно тихие магнетизерские движения, потом их все усиливал и учащал, стараясь смотреть на Егора Егорыча упорным взглядом; но в ответ на это тот смотрел на него тоже упорно и лихорадочно-блестящими глазами. У доктора, наконец, начал выступать пот на лбу от делаемых им магнетизерских движений, но Егор Егорыч не засыпал.
– Тело ваше слишком убито, и его не нужно усыплять, чтобы вызвать дух!.. Он в вас явен, а, напротив, надобно помочь вашей слабой материальной силе, что и сделают, я полагаю, вот эти три крупинки.
Проговорив это, гомеопат вынул из своей аптечки, возимой им обыкновенно в боковом кармане фрака, порошок с тремя крупинками, каковые и высыпал Егору Егорычу на язык. Затем он попросил Егора Егорыча остаться в абсолютном покое. Егор Егорыч постарался остаться в абсолютном покое, опять-таки не отнимая рук от солнечного сплетения. В таком положении он пролежал около получаса.
– Чувствуете ли вы некоторое успокоение? – спросил гомеопат.
– Да, как будто бы, – отвечал Егор Егорыч.
– Примите еще три крупинки! – продолжал гомеопат, высыпая новый прием на язык Егора Егорыча, который, проглотив крупинки, через весьма непродолжительное время проговорил:
– Теперь мне совсем хорошо.
Гомеопат с удовольствием потер себе руки и распрощался с Егором Егорычем масонским способом.
Около двух месяцев продолжалось лечение этого рода. Терхов всякий раз привозил доктора сам, и все время, пока тот сидел у больного, он беседовал с Сусанной Николаевной. Егору Егорычу по временам делалось то лучше, то хуже, но в результате он все-таки слабел, и доктор счел нужным объявить, что одних гомеопатических средств недостаточно для восстановления физических сил Егора Егорыча и что их надобно соединить с житьем в горной местности. Хлопоты для отыскания таковой местности опять принял на себя Терхов и обрел оную на довольно порядочной высоте Шварцвальда; но на беду, тут же существовала мыза для лечения молоком. Заведывающий этою мызою врач, с необыкновенно черными бакенбардами и, вероятно, из переродившихся жидов, почти насильно ворвавшись к Марфиным, стал с наглостью, свойственною его расе, убеждать Сусанну Николаевну и Терхова в превосходстве лечения молоком, особенно для стариков. Те, с своей стороны, предложили Егору Егорычу, не пожелает ли он полечиться молоком; тот согласился, но через неделю же его постигнуло такое желудочное расстройство, что Сусанна Николаевна испугалась даже за жизнь мужа, а Терхов поскакал в Баден и привез оттуда настоящего врача, не специалиста, который, внимательно исследовав больного, объявил, что у Егора Егорыча чахотка и что если желают его поддержать, то предприняли бы морское путешествие, каковое, конечно, Марфины в сопровождении того же Терхова предприняли, начав его с Средиземного моря; но когда корабль перешел в Атлантический океан, то вблизи Бордо (странное стечение обстоятельств), – вблизи этого города, где некогда возникла ложа мартинистов, Егор Егорыч скончался. Снова хлопоты, которые весьма находчиво преодолел Терхов тем, что посредством расспросов успел отыскать старого масона-мартиниста, лицо весьма важное в городе; он явился и объяснил все, что следовало, о Марфине. Старый мартинист принял живое участие в оставшейся вдове и схлопотал ей возможность довезти тело супруга на одном французском пароходе вплоть до Петербурга. Возвращаюсь, однако, к настоящему.
Когда вышесказанные два дня прошли и Сусанна Николаевна, имевшая твердое намерение погребсти себя на всю жизнь в Кузьмищеве около дорогого ей праха, собиралась уехать из Москвы, то между нею и Терховым произошел такого рода разговор.
– Вы теперь уж долго, вероятно, не появитесь сюда? – спросил он.
– Вероятно, я очень больна. Но вы, если будете так добры, навестите меня, умирающую, в моей усадьбе, в Кузьмищеве… До него не очень далеко отсюда.
Терхов расцвел.
– Я приеду, если вы мне позволяете это, предварительно переписавшись с вами, – проговорил он.
– Непременно переписавшись! – подхватила Сусанна Николаевна, и всю дорогу до Кузьмищева она думала: «Господи, какая я грешница!»
XIII
Сусанна Николаевна и Муза Николаевна каждонедельно между собою переписывались, и вместе с тем Терхов, тоже весьма часто бывая у Лябьевых, все о чем-то с некоторой таинственностью объяснялся с Музой Николаевной, так что это заметил, наконец, Аркадий Михайлович и сказал, конечно, шутя жене:
– Что это у тебя идет за шептанье с Терховым? Ты смотри у меня: на старости лет не согреши!
– Вот что выдумал! – произнесла, как бы несколько смутившись, Муза Николаевна. – Если бы кто-нибудь за мной настоящим манером ухаживал, так разве ты бы это заметил?
– Как бы это так я не заметил? – возразил Лябьев.
– Да так, не заметил бы; а тут, если и есть что-нибудь, так другое.
– Что же это другое?
– Не скажу!
– Ну, Муза, милая, скажи! – стал приставать Лябьев.
– Не скажу! – повторила еще раз Муза Николаевна.
– Отчего ж не скажешь? Что за глупости такие!
– Оттого, что ты сейчас всем разболтаешь!
– Не разболтаю, ей-богу! – воскликнул, перекрестившись даже, Лябьев.
– Не уверяй, пожалуйста! Знаю я тебя! – стояла на своем Муза Николаевна.
– О, когда так, то я знаю без тебя и буду всем об этом рассказывать!
– Что ты знаешь и что будешь рассказывать? – спросила Муза Николаевна, опять немного смутившись.
– Знаю я, – произнес, самодовольно мотнув головой, Лябьев, – во-первых, тут дело идет о Сусанне Николаевне.
– Может быть! – согласилась не умевшая лгать. Муза Николаевна.
– Потом о Терхове!
Муза Николаевна при этом потупилась.
– О нем? – спросил Лябьев.
– Может быть! – отвечала и на это Муза Николаевна.
– А далее ты рассказывай! – проговорил Лябьев и уселся даже, чтобы слушать жену.
– Да то, что я в очень странном положении… – начала Муза Николаевна, сама того не сознавая, говорить все откровенно. – Терхов мне признался, что он влюблен в Сусанну…
– Так и подобает, ничего нет тут странного! – подхватил Лябьев.
– Странно то, – продолжала Муза Николаевна, – что он просил меня сделать от него предложение Сусанне, но в настоящее время я нахожу это совершенно невозможным.
– Почему? – спросил Лябьев.
– Потому что после смерти Егора Егорыча прошло всего только шесть месяцев, и Сусанна, как, помнишь, на сцене говорил Мочалов, башмаков еще не износила[229], в которых шла за гробом мужа.
– Положим, что башмаки она уж износила! – заметил Лябьев. – Кроме того, если Терхов просил тебя передать от него предложение Сусанне, так, может быть, они заранее об этом переговорили: они за границей целый год каждый день виделись.
– Нисколько не переговорили! – возразила Муза Николаевна. – Терхов так был деликатен, что ни одним словом не намекнул Сусанне о своем чувстве.
– Словом, может быть, не намекал; но то же самое можно сказать действиями. Впрочем, пусть будет по-твоему, что на сей предмет ничем не было намекнуто, потому что тогда этому служил препятствием умирающий муж; теперь же этого препятствия не существует.
– Только не для Сусанны; я скажу тебе прямо, что я намекала ей не о Терхове, конечно, а так вообще, как она будет располагать свою жизнь, думает ли выйти когда-нибудь замуж, и она мне на это утвердительно отвечала, что она ни на что не решится, пока не прочтет завещания Егора Егорыча.
– Но какое же это такое завещание? – недоумевал Лябьев. – Ты сама же мне говорила, что Егор Егорыч перед отъездом за границу передал Сусанне Николаевне все свое состояние по купчей крепости.
– Ах, это вовсе не о состоянии завещание, а скорей посмертное наставление Сусанне, как она должна будет поступать перед богом, перед ближним и перед самой собою!
– Так что если в этом завещании сказано, чтобы она не выходила замуж, так она и не выйдет? – спросил Лябьев.
– Вероятно, – проговорила Муза Николаевна.
– Глупости какие, и глупости потому, что Сусанна, вероятно, со временем сама не послушается этого приказания.
– И то возможно! – не отвергнула Муза Николаевна.
– Ломаки вы, барыни, вот что! Справедливо вас Аграфена Васильевна называет недотрогами, – сказал Лябьев.
Побеседовав таким образом с супругой своей, он в тот же день вечером завернул в кофейную Печкина, которую все еще любил посещать как главное прибежище художественных сил Москвы. В настоящем случае Лябьев из этих художественных сил нашел только Максиньку, восседавшего перед знакомым нам частным приставом, который угощал его пивом. Лябьев подсел к ним.
– Интересную штуку он рассказывает, – произнес Максинька с обычною ему важностью и указывая на частного пристава.
– О чем? – спросил Лябьев.
– О том-с, как мы, по требованию епархиального начальства, замазывали в этой, знаете, масонской церкви, около почтамта, разные надписи.
– Стало быть, нынче сильно преследуют масонов? – сказал Лябьев.
– Ужасно-с! Раскольников тоже велят душить, так что, того и гляди, попадешься в каком-нибудь этаком случае, и тебя турнут; лучше уж я сам заблаговременно уйду и возьму частную службу, тем больше, что у меня есть такая на виду.
– Какая же и где это у вас на виду частная служба? – проговорил надменно и с недоверием Максинька.
– У Тулузова, у откупщика, – нехотя отвечал ему пристав и снова обратился к Лябьеву: – Ах, чтобы не забыть, кстати разговор об этом зашел: позвольте вас спросить, как приходится господину Марфину жена Тулузова: родственница она ему или нет?
– Если вы хотите, то родственница, – отвечал, стараясь припомнить, Лябьев, – но только сводная родня: она была замужем за родным племянником Марфина; но почему вас это интересует?
– По тому обстоятельству, – продолжал пристав, – что я, как вам докладывал, перехожу на службу к господину Тулузову главноуправляющим по его откупам; прежнего своего управляющего Савелия Власьева он прогнал за плутовство и за грубость и мне теперь предлагает это место.
– Но говорят, – возразил на это Лябьев, – этот Тулузов ужасный человек!
– Все это клевета-с, бесстыдная и подлая клевета какого-то докторишки! – воскликнул с одушевлением пристав. – Заслуги Василия Иваныча еще со временем оценит Россия!
Максинька при этом иронически улыбался: он так понимал, что частный пристав все это врет; но не позволил себе высказать это в надежде, что тот его еще угостит пивом.
– Главное желание теперь Василия Иваныча развестись с своей супругой, и это дело он поручает тоже мне, – продолжал между тем пристав.
– Но почему же именно он желает развестись с ней? – спросил Лябьев.
– Потому, что очень она безобразничает, не говоря уже о том, что здесь, в Москве, она вела весьма вольную жизнь…
– С нашим Петькой возжалась! – подхватил Максинька.
– Не с одним вашим Петькой, – отозвался пристав, – мало ли тут у нее было; а поселившись теперь в деревне, вдосталь принялась откалывать разные штуки: сначала связалась с тамошним инвалидным поручиком, расстроила было совершенно его семейную жизнь, а теперь, говорят, пьет напропалую и кутит с мужиками своими.
– Фу ты, боже мой, какая мерзость! – невольно воскликнул Лябьев.
– По-вашему, вот мерзость, а по законам нашим это ничего не значит! – воскликнул тоже и частный пристав. – Даже любовные письма госпожи Тулузовой, в которых она одному здешнему аристократику пишет: «Будь, душенька, тут-то!», или прямо: «Приезжай, душенька, ко мне ночевать; жду тебя с распростертыми объятиями», и того не берут во внимание.
– Это она писала к этому камер-юнкеру, который прежде все сюда ходил? – спросил Максинька.
– Тому самому! – подтвердил пристав.
– Но где ж вы могли достать эти письма? – проговорил Лябьев.
– Мы их купили у этого господина за пятьсот рублей… штук двадцать; баричи-то наши до чего нынче доходят: своего состояния нема, из службы отовсюду повыгнали, теперь и пребывает шатающим, болтающим, моли бога о нас. Но извините, однако, мне пора ехать по наряду в театр, – заключил пристав и, распрощавшись с своими собеседниками, проворно ушел и затем, каким-то кубарем спустившись с лестницы, направился в театр.
– Этот пристав – подлец великий! – сказал тотчас же после его ухода Максинька.
– Великий? – повторил Лябьев.
– Ух какой, первейший из первейших! Говорит, в частную службу идет, а какая и зачем ему служба нужна? Будет уж, нахапал, тысяч триста имеет в ломбарде.
– Не может быть! – не поверил Лябьев.
– Уверяю вас, но что об этом говорить! Позвольте мне лучше предложить вам выпить со мной пива! – сказал Максинька, решившийся на свой счет угостить себя и Лябьева.
– О, нет-с, – не позволил ему тот, – лучше я вас угощу, и не пивом, а портером.
– Благодарю, – сказал с нескрываемым удовольствием Максинька, и когда портер был подан и разлит, он поднял свой стакан вверх и произнес громогласно: – Пью за ваше здоровье, как за первого русского композитора!
– Не врите, не врите, Максинька, – остановил его Лябьев, – есть много других получше меня: первый русский композитор Глинка.
– Так! – не отвергнул Максинька.
Затем, по уходе Лябьева, Максинька пребывал некоторое время как бы в нерешительном состоянии, а потом вдруг проговорил необыкновенно веселым голосом половому:
– Миша, дай-ка мне еще бутылочку пива!
– Да вы и без того много надолжали; хозяин велел только вам верить до двадцати пар, а вы уж…
– Ну, ну, ну! Что за счеты! – остановил его Максинька одновременно ласковым и повелительным голосом.
Половой, усмехнувшись, пошел и принес Максиньке бутылку пива, которую тот принялся распивать с величайшим наслаждением и, видимо, предавался в это время самым благороднейшим чувствованиям.
Однажды, это уж было в начале лета, Муза Николаевна получила весьма странное письмо от Сусанны Николаевны.
«Музочка, душенька, ангел мой, – писала та, – приезжай ко мне, не медля ни минуты, в Кузьмищево, иначе я умру. Я не знаю, что со мною будет; я, может быть, с ума сойду. Я решилась, наконец, распечатать завещание Егора Егорыча. Оно страшно и отрадно для меня, и какая, Музочка, я гадкая женщина. Всего я не могу тебе написать, у меня на это ни сил, ни смелости не хватает».
Когда Муза Николаевна показала это письмо Лябьеву, он сказал:
– Тебе надобно ехать!
– Непременно, – подхватила Муза Николаевна, – а то Сусанна, пожалуй, в самом деле с ума сойдет.
– Положим, что с ума не сойдет, – возразил Лябьев, – и я наперед уверен, что все это творится с ней по милости Терхова: он тут главную роль играет.
– Конечно, без сомнения! – подхватила Муза Николаевна.
– А с ним ты перед отъездом не повидаешься? – спросил Лябьев.
Муза Николаевна несколько мгновений подумала.
– Но зачем мне с ним видеться? – начала она с вопроса. – Подать ему какую-нибудь надежду от себя – это опасно; может быть, ты и я в этом ошибаемся, и это совсем не то…
– Отчего же не то? – сказал с недоумением Лябьев.
– Оттого что… как это знать?.. Может быть, Егор Егорыч завещал Сусанне идти в монастырь.
– Какие глупости! – воскликнул Лябьев. – Тогда к чему же ее фраза, что ей отрадно и страшно?
– К тому, что идти в монастырь Сусанне отрадно, а вместе с тем она боится, сумеет ли вынести монастырскую жизнь.
– Нет, твое предположение – вздор! – отвергнул с решительностью Лябьев.
– Не спорю, но ты согласись, что мне лучше не видеться с Терховым, и от этого надобно уехать как можно скорей, завтра же!
– Завтра же и поезжай! – разрешил ей Аркадий Михайлыч.
– Я поеду, но меня тут две вещи беспокоят: во-первых, наш мальчуган; при нем, разумеется, останется няня, а потом и ты не изволь уходить из дому надолго.
– Куда ж мне уходить? – отозвался Лябьев.
– Да в тот же клуб, где ты уже был и поиграл там, – заметила с легкой укоризной Муза Николаевна, более всего на свете боявшаяся, чтобы к мужу не возвратилась его прежняя страсть к картам.
Лябьев, в свою очередь, был весьма сконфужен таким замечанием жены.
– Что ж, что я был в клубе; я там выиграл, а не проиграл! – проговорил он каким-то нетвердым голосом.
– Это ничего не значит, – возразила ему супруга, – сегодня ты выиграл, а завтра проиграешь вдвое больше; и зачем ты опять начал играть, скажи, пожалуйста?
– Ах, Муза, ты, я вижу, до сих пор меня не понимаешь! – произнес Лябьев и взял себя за голову, как бы желая тем выразить, что его давно гложет какое-то затаенное горе.
– Напротив, я тебя очень хорошо понимаю, – не согласилась с ним Муза Николаевна, – тебе скучно без карт.
– Скучно; а почему мне скучно?
– Потому, что ты недоволен всем, что ты теперь ни напишешь.
– Да как же мне быть довольным? Даже друзья мои, которым когда я сыграю что-нибудь свое, прималчивают, и если не хулят, то и не хвалят.
– Ну, что ж с этим делать? Надобно быть довольным тем, что есть; имя себе ты сделал, – утешала его Муза Николаевна.
– Какое у меня имя! – возразил с досадой Лябьев. – Я не музыкант даже настоящий, а только дилетант.
– Но что ж такое, что дилетант? Точно так же, как и другие; у вас все больше дилетанты; это-то уж, Аркадий, я понимаю, потому что сама тоже немножко принадлежу к вашему кругу.
– Нет, Михаил Иваныч Глинка не дилетант! – воскликнул, иронически рассмеявшись, Лябьев. – Что такое его «Жизнь за царя»?.. Это целый мир, который он создал один, без всяких хоть сколько-нибудь достойных ему предшественников, – создал, легко сказать, оперу, большую, европейскую, а мы только попискиваем романсики. Я вот просвистал удачно «Соловья» да тем и кончил.
– Что ты говоришь: тем кончил? Мало ли твоих вещей? – продолжала возражать Муза Николаевна.
– Вещичек, вещичек! – поправил ее Лябьев. – А все это отчего? Михаил Иваныч вырос посреди оркестра настоящего, хорошего оркестра, который был у его дяди, а потом мало ли у кого и где он учился: он брал уроки у Омана, Ценнера, Карла Мейера, у Цейлера, да и не перечтешь всех, а я что?.. По натуре моей, я знаю, что у меня был талант, но какое же музыкальное воспитание я получил? Обо мне гораздо больше хлопотали, чтобы я чисто произносил по-французски и хорошо танцевал.
– Этого уж не воротишь, – подхватила Муза Николаевна, – но мы должны утешать себя теперь тем, что у нас сын будет музыкант, и мы его станем уж серьезно учить.
– Непременно, непременно! – прокричал на всю комнату Лябьев. – Я продам все, но повезу его в лучшую консерваторию в Европе.
– Прежде еще ты сам его должен учить, а потому тебе играть в карты будет некогда.
На этих словах Музы Николаевны старая нянька ввела маленького Лябьева, очень хорошенького собою мальчика, которому было уже три года.
Мать сейчас же посадила его себе на колени и спросила:
– Миша, ты будешь музыкантом?
– Да, – громко сказал Миша, мотнув своей большой курчавой головой.
– А кто из нас лучше играет: я или папаша?
– Он, папаша! – отвечал Миша и указал своим пухленьким пальцем на отца.
XIV
Музе Николаевне пришлось ехать в Кузьмищево, конечно, мимо знакомой нам деревни Сосунцы, откуда повез ее тоже знакомый нам Иван Дорофеев, который уже не торговлей занимался, а возил соседних бар, купцов, а также переправлял в Петербург по зимам сало, масло, мед, грибы и от всего этого, по-видимому, сильно раздышался: к прежней избе он пристроил еще другую – большую; обе они у него были обшиты тесом и выкрашены на деревенский, разумеется, вкус, пестровато и глуповато, но зато краска была терта на чудеснейшем льняном масле и блестела, как бы покрытая лаком. Услыхав, что сдают свезти в Кузьмищево едущую из Москвы барыню, Иван Дорофеев, значительно уже поседевший, но все еще молодцеватый из себя, вышел, как водится, на улицу. Сторговавшись с извозчиком в цене, он не работника послал везти барыню, а захотел сам ехать и заложил лучшую свою тройку в бричку, в которой ехала Муза Николаевна вдвоем с горничной; затем, усевшись на козлы и выехав из деревни в поле, Иван Дорофеев не преминул вступить в разговор с своими седоками.











