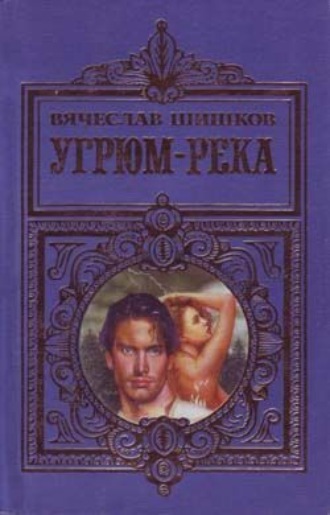 полная версия
полная версияУгрюм-река
– Ага-а! Так твою в тартынку!!
Все слилось в ревущую неразбериху: вот меж ногами Фаркова хрипит и закатывает глаза налившаяся кровью голова армянина; вот сам Фарков, царапая скрюченными руками землю, юлит, как большой ящер, выползая из-под рухнувшей на него горы. Облаком взметнул песок, с хрустом шебаршит щебень; головни и горящие сучья, словно жар-птица, летят из костра куда попало.
– Довольно!! – во всю мочь вскричал Прохор и бросился их разнимать.
– Баста, – грузно поднялся толстяк, как свекла красный, и стал вправлять в штаны выбившуюся разодранную рубаху. – Будешь?!
Фарков молча схватил весло и опоясал толстяка по широкому седалищу. Звонкий, хлесткий, как пощечина, удар враз покрылся дружным смехом. Армянин схватился за вспыхнувший от удара зад, плюнул в Фаркова и скомандовал:
– Эй вы, к шитику! – И прокричал с подушек, потрясая распущенным зонтом: – В острог, сукин ты сын, в острог!! Есть свидетели!
Забурлила вода, захлюпали натруженные ноги, дальше, призрачней, и все потонуло в мутной синеве, только слышалось: «Тяни-тяни!» – и терпкая, как турецкий перец, ругань.
Прохор долго грустно смотрел туда, где скрылся чертов призрак, потом подошел к потухшему костру. Фарков теплым чаем тщательно промывал подбитый в свалке глаз.
Вдруг в соседнем кусту зашевелилось – приподнялся Ибрагим и посмотрел на солнце.
– Никак проспали?
– Кто проспал-то? – засмеялся Прохор. – Тут целая война была... Неужто не слыхал?
– Чего врешь, – мрачно отозвался черкес. – Какой война?
– Вот так дрых! – крикнул Фарков. – Вишь, даже глаз мне подбить могли... Война и есть. Ведь тебя истоптали было. Кувыркались через тебя.
– Чего врешь! – Ибрагим насупил брови и сердито ворочал белками. – Мертвый я, что ли? – Большая лысина его сияла.
Прохор с Фарковым закатились хохотом.
Ибрагим икнул и хмуро потянулся к чайнику.
X
Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тальниках появились блеклые листы; они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом с Прохором; слышно было, как крадется лиса сквозь чащу. Четко плыли в ночи монотонные рыданья сов. А ружейный выстрел напоминал громовой раскат; он долго гудел и рассыпался по граням гористых берегов.
Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе – нечто дикое, коварное. Вот приветливо улыбнется она, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо: «Плывите, дорогие гости, добрый путь!» – и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. Но вдруг, за поворотом, нежданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход.
И снова тихое, улыбчивое плесо, и снова ему на смену непроходимый перекат или порог. Так изо дня в день. Шиверы, пороги, перекаты, запечки, осередыши.
А время шло не останавливаясь. Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему – беспредельный в пространстве океан.
Ибрагим от раздраженья пожелтел; он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем.
– Ну и река! Что это за река? Перекат на перекате! Глупая какая-то!.. Столько времени теряем...
– Река бедовая, свирепая... Уж Бог создал ее так, – спокойно говорит Фарков. – Она все равно как человечья жизнь: поди пойми ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь как жизнь людская. Да.
Однажды, перед тем как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув за реку на лысую, стоявшую вблизи берега сопку:
– Извольте посмотреть... Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день, а к ночи, ежели благополучно, опять к ней, только с другого бока.
– Зачем?
– А так уж, значит, матушка-река протекла, – поспешно стал пояснять Фарков. – На пути три огромадных загогулины делает она, по-нашему – три мега. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухопутьем – полторы версты.
Ибрагим покрутил головой и плюнул.
Прохор высадился на противоположном берегу и, отпустив шитик, направился таежной целиной к сопке.
Вот он на плоской, как стол, безлесной вершине. Какая высь! Перед ним сразу открылись неоглядные просторы.
Был ранний час. Восток окрасился зарею, из-под земли, из таежных дебрей вздымался нежными лучами свет. Лицо тайги, приподнятое к небу, было темно-зеленое, угрюмое – ночные тени еще не сползли с него. Тихо. Воздух не шелохнется. Прохор слышит, как тикают его часы. На душе его неспокойно. Там, внизу, в обществе Ибрагима и Фаркова, он за последнее время все чаще и чаще стал замечать в себе тревогу; он ощущал ее смутно, неопределенно, будто невнятный предостерегающий чей-то шепот, но в работе всегда забывал о ней. А вот здесь, сейчас, наедине с собою, открытый всем четырем ветрам, Прохор вновь узнал эту назойливую гостью; она резко постучала в дверь его души, она замутила его сердце каким-то гнетущим предчувствием. Ему вспомнился отец, вспомнилась мать, плачущая горько и благословляющая его в опасный путь большим благословением: «Прошенька, голубчик мой... Да сохранит тебя Господь». В то время Прохор – юное, неискушенное дитя – только улыбнулся. Теперь же был у него за плечами опыт: трудный пройденный путь сулил впереди бесконечные лишенья. Скоро они останутся вдвоем с черкесом среди безлюдной неизведанной реки, скоро пойдут по воде туманы, а там и снег, зима. Что делать? Может быть, назад? И вот лишь в этот миг юноша ясно и отчетливо уразумел кровную тревогу своей матери: «Прошенька... Да сохранит тебя Господь».
Прохор это вспомнил, перечувствовал, не раз вздохнул. Так неужели впереди погибель? И пало в мысль желание усердно помолиться, попросить у Бога милости: да пошлет ангела-покровителя, да сделает путь его счастливым. С благоговением опустился он на покрытые росой каменные плиты, припал лицом к земле. Он усиленно морщил лоб, вздыхал, стараясь вызвать слезы, но кто-то мешал ему сосредоточиться; он плохо слышал слова молитвы, которые шептали его губы. «Ангел мой святый, хранителю души и тела моего...» Да, да... Это она, это они мешают обе – Таня и прекрасная шаманка. Греховно улыбаются, влекут его к себе... «Хранителю мой святый, вся ми прости, елико согреших словом, делом, помышлением...» Однако молитва не помогла: в душе хандра, развал.
Но вот в его глаза ударил новорожденный свет. И обманные призраки враз исчезли. Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца:
– Солнышко! Солнышко!
Свежими лучами брызнуло солнце в молодую душу, смятенья как не бывало.
– Здравствуй, солнышко! – Прохор больше ничего не мог сказать, его губы прыгали. Он чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.
– Ты и черкес... Вас двое... Ничего не боюсь я... Солнышко!
Дыхание Прохора сделалось ровным, неторопливым, кровь в сердце успокоилась: он вытер слезы и долго любовался расстилавшимися пред ним далями.
Прохладным, еще не разгоревшимся костром солнце медленно всплывало в бледном небе, пологие лучи его вяло блуждали по шапкам леса, покрывавшим склоны и вершины гор. И все, что никло в дреме головой, теперь раскрывало глаза, пробуждалось.
Проснулся воздух, свежие ветерки взвихрились над тайгой, шелковым шорохом прошумели хвои осанну лучезарному властителю земли и – вновь тишина. Только слышатся хорьканье игривой белки и гордый клекот орла. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост; вот она облюбовала шишку с орехами, – Господи благослови! – поест сейчас. Но орлиные когти до самого сердца вонзились в теплый ужаснувшийся комок, и бисерные глаза зверька навек закрылись.
Прохор вскинул ружье, и – бах! – орлиная голова слетела с легких плеч, и владыка птиц камнем рухнул в пропасть. Рявкнул медведь в логу; он поднял оскаленную морду на прозвучавший выстрел и отхаркнулся кровью оленя, которого он только задрал у холодного ключа. И началось, и началось... Кровь, трепет, смерть во славу жизни. Железный закон вступил в свои права.
А солнце движется своей чередой... Какое ему дело, что творится где-то там, в земном ничтожном мире. Равнодушное, без злой воли, радости и гнева, оно все жарче, все сильней разжигает свой костер.
Прохор медлил уходить. Для взора все теперь стало отчетливо и ярко. Сверкала Угрюм-река. Она казалась отсюда тихим извивным ручейком. «Что это чернеет на ней маленькой козявкой? Неужели шитик?»
Внизу, недалеко от подножья сопки, вьется тонкая струйка голубого дыма.
«Ага, тунгусское стойбище».
На ярко-зеленой, облитой солнцем поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три остроконечных чума.
Прохор закурил папиросу и торопливо стал спускаться с сопки. Он много слышал от Фаркова об этих лесных людях – тунгусах, но ни разу не видал их вплотную. Прохору начали попадаться олени. Крепкие, красивые, с раскидистыми рогами, – шерсть лоснилась под солнцем, черные глаза блестели. А некоторые были облезлые, новая шерсть еще не отросла, они прихрамывали; на ногах, повыше копыт, гноились раны, в которых кишели белые черви.
– А-а, люча[1] прибежаль, русак! Здраста, бойе!
Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мох, подходил к нему старик тунгус.
– Здраста! – проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора. – Как попаль, бойе? Торговый, нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай? А? – Старик прищурил раскосые узенькие глаза и улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах, лицом.
– Айда! – махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика в замшевых длинных унтах четко отбивали быстрые шаги.
– Куда, бойе, вниз бежишь на шитике? – спросил тунгус, когда вышли на берег.
– В Крайск, старик, в Крайск. Доплывем?
Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой:
– Нет. Сдохнешь.
Прохор начал возражать, горячо заспорил, но тунгус стоял на своем:
– Совсем твоя дурак... Зима скоро... Шибко далеко, бойе. Боро-ни-и-и Бог!
В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер – гуливун, – возле него суетились бабы, старые и молодые; они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубахе и с длинной черной, как у китайца, косой ссекал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха с голой, неимоверно грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделывая из нее замшу – ровдугу. Возле нее стояло сплетенное из бересты и обмазанное глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочой, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе под нос толстым голосом и страшно потела от усилий.
– Э, бойе!.. Э!.. – Она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули.
Старик тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему:
– Это мой баба... Шибко хорошо стрелят... медведя бил, самого амикана-батюшку... Шибко много... Борони-и-и Бог! Вот слепился... Мало-мало кудой глаз стал...
Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел: «бух-бу-х!» – и радовалась, как ребенок.
Над небольшим костром у чума суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко – солнце припекало не на шутку, – она по пояс нагая, только грудь кой-как прикрыта сизым халми[2], вышитым бисером и отороченным лисьим мехом.
В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины – от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней.
– Это мой дочка... – сказал старик. – Мужик сдох, околел маленько. Одна осталась. Больно худо... совсем худо. Мальчишку надо, а не рожает... – И голос старика стал грустным. – Я богатый: много олень, пушнина, да то, да се... Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо, внука. Вот останься, бойе, поживи мало-мало. Она шибко жарко обнимат, хе-хе-хе... Борони Бог как! Рази кудой баба? А? Оставайся, любись. Родит мальчишку, уйдешь тогда...
Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный передник приподнялся, и украдкой улыбнулась Прохору.
– Какой тебе год? Двасать пьять будет? – спросил старик.
– Нет, семнадцать, – смутился Прохор.
– Ей-бог? Тогда не нужно... Семнасать – чего тут... Тьфу твоя дело! – запыхтел старик.
Прохор покраснел. Тунгуска выпрямилась, опустила глаза, что-то сказала тихо и вздохнула.
– Может, на шитике шибко большой мужик есть? А? – сюсюкал гортанным голосом старик. – Шибко надо...
Четыре девочки с любопытством разглядывали Прохора, шептались, тыча по направлению к нему пальцами, на которых белели серебряные кольца. Потом вдруг все засмеялись, словно защебетала веселая стая птиц, и кинулись навстречу высокой молодой девушке.
– Другой дочка, – сказал старик. – Шибко молодой... Шибко сладкой. Ну-ка, гляди-ка...
Прохор поклонился ей, сняв шляпу. Но девушка, направляясь с ведром к реке, прошла молча, даже не взглянула на него. Ее гордо поднятая голова была в ярко-зеленом тюрбане, оттенявшем смуглый румянец ее щек. Оранжево-огненный кафтан с красными широкими полосами по борту и подолу плотно облегал гибкую талию; позванивали и блестели серебряные украшения на груди и чеканные браслеты, охватившие запястья тонких рук. А ноги – в цветистых, сплошь шитых бисером сапогах.
Двигалась девушка быстро, чуть подрагивая бедрами, и рдела под солнцем в своем оранжевом кафтане, как столб пламени.
У Прохора замерло сердце. Он прошептал: «Вот так красавица!..» Ему захотелось догнать ее.
Старик хлопнул Прохора по плечу, скрипуче засмеялся и прищелкнул языком:
– Скусна! Вот, женись!.. Оставайся: тайгам гулять будешь, амикана-дедушку промышлять, белковать будешь... А? Все тебе отдам, всех оленей, на!
– Вот года через два приеду, женюсь, – улыбнулся Прохор.
Старик безнадежно засвистал.
– Сейчас женись! Чего ты... – И голос его стал серьезным. – Два года двасать местов будем, не найдешь... Мой сидеть не любит, тайгам гулял, все смотрел... Чего ты! А девка – самый скус!.. О-о, какой девка!.. Не дай Бог. – Старик почмокал и сглотнул, потом потащил Прохора в тайгу. – Вот пойдем, оленей глядеть будем, козяйство... Женись, бойе, женись... Верно толкую, чего ты!
И крикнул:
– Эй, бабы!.. Жрать скорей работай! Гость угощать надо... Шибко скорей!..
Ночь надвигалась тихая, звездная. Прохор лежал возле костра на берегу, поджидал запоздавший шитик. От нечего делать он просматривал записи в своей книжке. Старик тунгус сообщил ему много любопытных сведений. Он знает теперь, где кочуют тунгусы и куда выходят они зимой, чтоб обменять богатый зверовой улов на ничтожную подачку от русских торгашей-грабителей. Прохор приедет сюда и все устроит по-иному: пусть вздохнет свободно этот гостеприимный, ласковый народ. Или вот еще: та сопка, на вершине которой он был утром, оказывается, имеет в себе медь. В его руках кусок металла, найденного стариком в каменном обрыве сопки. Старик проговорился также и про золото; тунгусы знают, где оно родится, но не хотят сказать, а то придут, мол, русские и повыживут из тайги все их племя. Нет, лучше пусть лежит в земле!
Конечно, Прохор будет здесь работать, проложит широкие дороги, оживит этот мертвый край, разделает поля, а главное – схватит вот этими руками реку и выправит ее всю, как тугие кольца огромного удава. Обязательно, обязательно все будет так. Прохор Громов только начинает свою жизнь. О, погодите!
Лицо юноши в эту минуту казалось суровым, меж бровями легли глубокие складки, и старческие приблудыши-морщины протянулись от углов губ.
А все-таки как хороша эта девушка! Вдруг он женится на ней... Мать, наверное, согласилась бы, а вот отец... Во всяком разе – вернется домой – поговорит. Ну и чудак этот старик тунгус. Славный старик, хороший. Разыскал спирту, напился пьян, угостил Прохора и все уговаривал его остаться в тайге, с его дочкой. Хвалил ее на все лады, а подвыпив, строго приказал дочке раздеться: пусть бойе посмотрит, это ничего, надо показывать товар лицом. Пусть. Когда старик стал кричать на девушку и махать кулаками, та с хохотом выбежала вон и больше не возвращалась. А старуха ударила его в лоб замазанной тестом ложкой, – старик заплакал, лег возле костра и, свернувшись калачом, тотчас же уснул.
Лицо Прохора вновь стало юным. Он лежал, закрыв глаза, на губах улыбка. А думы безудержно уносили его все дальше, дальше.
Тишина. Всплескивают весла. Должно быть, шитик. Нет, это камыши шумят. Нет, соболь крадется к задремавшей птице.
– Бойе... Проснись, бойе...
Прохор открыл глаза. Склонившись над ним, сидела девушка. Маленькие яркие губы ее улыбались, а прекрасные глаза были полны слез.
– Значит, хочешь уйти, покинуть?
– Да, хочу... – сказал Прохор, и ему стало жаль девушку. – А может быть, останусь. Поплывем с нами.
– Нет, нельзя... Я в тайге лежу. Меня караулят.
– Что значит – лежу? Кто тебя караулит?
– Шайтаны, – сказала она и засмеялась печальным смехом. – Еще караулит отец. – Она совсем, совсем хорошо говорила по-русски, и голос ее был нежный, воркующий.
Прохору лень подниматься. Он взял ее маленькую руку и погладил.
– Как тебя звать?
– Синильга. Когда я родилась, отец вышел из чума и увидал снег. Так и назвали Синильга, значит – снег... Такая у тунгусов вера...
Звезд на небе было много. Но самоцветных бусинок на костюме девушки еще больше. Прохор ласково провел рукой по нагруднику-халми. Грудь девушки всколыхнулась. Девушка откинула бисерный халми и прижала руку юноши к зыбкой своей груди:
– Слушай, как бьется птичка: тук-тук! – Она совсем близко заглянула в его глаза. Нашла его губы, поцеловала. – Бойе, милый мой, – в голосе ее укорчивая тоска, молящий стон.
Прохору стало холодно, словно метнуло на него ветром из мрачного ущелья.
– Вот лягу возле тебя... Обними... Крепче, бойе, крепче!.. Согрей меня... Сердце мое без тебя остынет, кровь остановится, глаза превратятся в лед. Не ветер сорвет с моих щек густоцвет шиповника, не ночь погасит огонь глаз моих. Ты, бойе, ты! Неужели не жаль меня?
Прохор в этот миг заметил сидевшую на обрывистом камне, над самой водой, молодую вдову-тунгуску. Грудь ее дрожала от глухих рыданий, и черные распущенные волосы свисали на глаза. Прохору вдруг захотелось причинить девушке страдание, и он сухо сказал:
– Нет, Синильга, не жаль тебя. Вот ту жаль...
Синильга молча встала и, побежав, столкнула вдову в реку, а сама возвратилась холодная.
– Неужели густые сливки хуже прокисшего молока? Эх, ты!.. – сказала Синильга и легла возле него на золотом песке. – Не любишь, значит?
– Я другую люблю, – прошептал Прохор, не в силах оторваться от влекущего к себе лица Синильги. – Ты прекрасна, но та лучше тебя во сто раз.
– Ах, бойе! – вздохнула девушка и вся померкла. – Оставайся здесь, оставайся! Я научу тебя многому. Любишь ли ты сказки страшные-страшные? Я – сказка. Любишь ли ты песни грустные-грустные? Я – песня, а мое сердце – волшебный бубен. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному бездорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый, и возле месяца круг. Ха-ха-ха!.. Ой, горько мне, душно!
И она заплакала и стала срывать с себя одежду, но не могла этого сделать: словно холодное железо, пристыла одежда к ее телу. Плакала Синильга долго, ломала руки в последней тоске, и плач ее сливался с другим плачем: взобравшись на окатный белый камень, видимый среди ночи при свете звезд, навзрыд рыдала с того берега вдова.
Прохору все еще лень подняться; он только слушал, и ничто не удивляло его.
– Не верь вдове! Она притворщица: плачет о том, чего не было, ищет, чего не теряла.
Синильга все ближе придвигалась к нему, – он отодвигался.
– Ты холодна, как снег, Синильга.
– Я снег и есть.
– Синильга! Если бы ты была она, я бы любил тебя.
– Бойе! Я и есть она, она и есть я... Разве не узнал?
– Я никогда не видал ее. Я только слышал про нее сказку. Та – мертвая... Но я возвращу ей жизнь.
– А я не мертвая? Я, по-твоему, живая? Бойе! Вот, поцелуй меня жарко, жарко. Брось меня в костер твоего сердца, утопи меня в горячей своей крови, тогда я оживу. Ох, тяжко мне в гробу лежать одной и хо-о-лодно...
Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру и никак не мог оторваться взором от Синильги: столь прекрасна она была.
– Значит, ты шаманка? Та самая, что...
– Та самая.
Словно льдина прокатилась по спине его. Задрожав, он крикнул:
– Врешь!!!
– Прохор Громов! – вещим, резким голосом произнесла Синильга.
– Откуда ты знаешь? Ты кто? – весь холодея, юноша вскочил.
Та же ночь была, тихая, звездная. Прохор перекрестился, вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра: голова была тяжелая, слипались утомленные глаза. Подживил костер и крепко, по-мертвому, заснул.
– Вставай, что же ты... Эй, Прошка!
Шитик круто взял к фарватеру. Солнце ударило Прохору в лицо. Он поднялся.
– Что за чертовщина такая! – От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно.
На берегу стояла группа тунгусов – мужчин и женщин.
Они вышли взглянуть на шитик и пожелать счастливого пути.
Прохор подошел к старику, спросил его:
– А где Синильга?
– Какой Синильга? Нет такой... Может, мой девка, дочка? Он в чуме сидит, хворает.
Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб.
«Разве спросить вдову, может быть, это она приходила ко мне на ночное свиданье? Может, ее Синильгой звать?»
Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика:
– Прошка, плывем!!!
XI
В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой наконец прибыли в Ербохомохлю – последний населенный пункт.
– Жалко расставаться с вами... Ну и жалко! – искренним голосом сказал Фарков. – Дюже привык я к вам... Ей-богу!
Как ни упрашивали его Прохор с Ибрагимом, чтоб не оставлял их, Фарков не соглашался:
– У меня там сын, хозяйство. Как спокину? Ведь ежели плыть, дай Бог к Пасхе домой-то вертануться... Много тысяч верст надо обратно-то околесить. Баба подумает, что утонул. Нельзя, братцы.
Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору и обнял его, как сына:
– Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок!.. Много тобой довольны... Значит, через годик будем поджидать тебя. Так-то... – Он отвел Прохора в сторону. – Иди-ка, паря, на пару слов. – И, усадив его на завалинку возле избы, заговорил тихо, трогательно: – Вишь, что, Прошенька. Ты хорошенько обмозгуй дело-то, плыть ли. Поздно, смотри, вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь.
– Я решил плыть.
– Смотри. Надо мужиков расспросить здешних, стариков. Может, бывал который. Ну ладно, авось Бог пронесет... А вот еще чего... – Он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал: – Тунгуска-т, шаманка-т, мертвая-то... Ведь ее впрямь Синильгой звали. Вспомнил, ей-богу право... Синильга, как есть.
Прохор вопросительно, с внутренней дрожью взглянул на него:
– Ну и что же?
– А то, что не шибко-то накликай ее. Избави Господи: прицепится – с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить тебя, ты больше молитвой. Бывало случаев разных много...
– Ерунда какая! – овладев собой, презрительно ухмыльнулся Прохор.
Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день.
Прохор с Ибрагимом осиротели.
Ербохомохля – маленькое захудалое село. Есть деревянная церковь, но колокола ее давным-давно безмолвствуют: пятый год нету постоянного священника, лишь раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы; благочинный как следует дорвется до дарового угощенья и, весь опухший от вина, возвращается домой. А в народе – горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: «Обман, мошенство».
Жители в селе Ербохомохле – старожилы. Предки их перекочевали сюда из Руси еще при царе Алексее Тишайшем, частью беглые от крепостного права, от солдатчины или осевшие тут казаки, что отвоевали когда-то земли сибирские. Теперь добрая половина жителей занималась звероловством, часть – допотопным способом ковыряла землю, что-то сеяла и была в полной кабале у суровой, обманчивой природы. Остальная же часть, немалая, – отъявленные жулики. Они обманывали соседей, друг друга, отца, брата и кого придется, по преимуществу же беспомощных, простодушных тунгусов, в большом числе ежегодно собиравшихся сюда с богатейшими дарами тайги на ярмарку в день зимнего Николы. Приезжали на эту ярмарку и тороватые купцы из ближнего городишка, торчавшего где-то за полторы тысячи никем не меренных верст. Приезжал и сам господин становой пристав – око царево – и урядник, а то и пастырь: на случай духовных треб.











