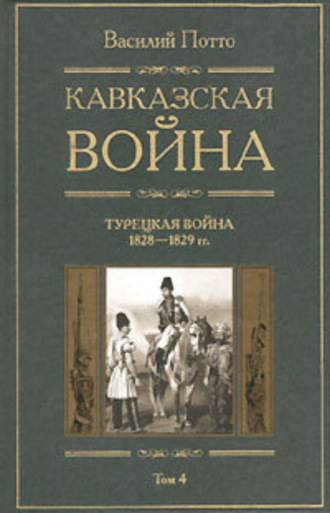 полная версия
полная версияКавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829гг.
Получив разрешение государя на переселение армян, Паскевич тотчас же принялся за разрешение этого вопроса на практике.
Народ, который искал в нашем отечестве, вместо бедствий и векового рабства, спокойствия и благоденствия, нуждался в особом попечении о нем, а иначе и самая цель переселения никогда не была бы достигнута. Чем скорее переселенцы приобрели бы на новых местах цветущее состояние, тем большую пользу они принесли бы и самой России, принявшей их под свое покровительство.
Чтобы возможно лучше организовать это дело, Паскевич учредил в Тифлисе особый комитет по переселению, и нужно сказать, что этот комитет чрезвычайно заботливо отнесся к своей задаче. Он разделил всех переселенцев на три категории: к первой из них были отнесены люди, принадлежавшие к торговому сословию, ко второй – мастеровые или занимавшиеся какими-нибудь ремеслами и промыслами, и наконец, к третьей – хлебопашцы. Эти категории комитет имел в виду и при самом отводе земель для размещения переселенцев. Купцов и мастеровых предполагалось водворять в городах или там, где их торговля и ремесла могли обращаться с выгодой; поселян – в деревнях, на земле, удобной для хлебопашества и скотоводства. Заботливость комитета простерлась даже до того, что старались принимать в соображение климатические условия их родины, и жителей горных стран селили на возвышенностях, а живших на плоскостях – в равнинах. Этой мерой желали сберечь переселенцев от смертности и предохранить их от разорения, неминуемо грозившего им с переменой хозяйственных занятий, которые не одни и те же в горах и на плоскости. Очевидно, что правильное размещение переселенцев, именно в этом порядке, много способствовало бы скорейшему улучшению их благосостояния.
Было обращено также внимание на то, чтобы хлебопашцев водворять целыми селами, как они жили на родине, а при невозможности этого, по крайней мере в ближайшем соседстве. Земли приказано было отводить казенные, и только, в исключительных случаях селить их на землях церковных или помещичьих.
Для размещения торговцев и ремесленников комитет указал на многие казенные здания в Елисаветполе, и в других городах, которые с небольшими приспособлениями легко могли обратиться в магазины или мастерские, а для поддержания самих ремесел разрешено было отпустить переселенцам из доходов Ширванской области до полутораста пудов шелка и до тысячи пудов хлопчатой бумаги.
Постепенно расширяя круг своей деятельности, комитет пошел еще далее и предложил поручить новых переселенцев в заведование особых офицеров, которые, до окончательного устройства их, остались бы над ними вроде приставов и служили бы посредниками между ними и местным начальством, которое, как деликатно выразился комитет, “всегда обременено многими другими предметами и потому едва ли будет иметь о них совершенную заботливость”.
Самые деревни предполагалось строить с широкими улицами и площадями, а дома в них должны были иметь вид не обычных азиатских землянок, а ближе подходить к типу русской крестьянской избы. Но с этой последней мерой уже не согласился Паскевич, предоставив армянам устраивать их внутренний быт, как они пожелают сами. Об этом, впрочем, нельзя не пожалеть. Безответное рабство в течении многих веков наложило на народ свою роковую печать, и он перенес на новую родину ту же наследственную грязь и те же душные, подземные буйволятники, где семья армянина и весь скарб его помещается вместе с лошадьми и буйволами. Все скрыто под землей, закупорено без света и воздуха. И даже до настоящего дня жители русской Армении живут нисколько не лучше тех своих земляков, которые, оставшись в Турции и Персии, проводят время всегда на рубеже между жизнью и смертью, между надеждой и страхом разорения. Такова гнетущая сила привычки, и без посторонней помощи народу из нее никогда не выбиться.
Таким образом теоретически переселенческий вопрос был вполне подготовлен комитетом; оставалось осуществить его на практике. Пока значительная часть русских войск зимовала в завоеванных провинциях, армяне могли оставаться совершенно спокойными; но они с тревогой смотрели на будущее, когда покровители покинут край, и с нетерпением ждали только денежной помощи, чтобы двинуться в путь. Многие отказывались даже от всякого пособия и только просили позволения теперь же переселиться в Грузию или в Армянскую область. Позволение это было дано, и тотчас же тысячи семей, несмотря на суровую зиму, тронулись в наши пределы. Из Арзерума вышло тогда только до пятисот душ, но из Карса сразу отправилось около двух с половиной тысяч семейств. Их всех водворили близ Алагеза в Помбакской дистанции, или в окрестностях Гумр и в Дорийской степи, еще много было пустых деревень, покинутых жителями еще с последнего персидского вторжения. С наступлением весны должны были тронуться в путь баязетские жители, и тогда же должно было начаться общее переселение христиан, так как по выходе наших войск из пределов Турецкой империи им оставаться в ней было бы уже небезопасно.
Турки понимали отлично, что удаление греков, а тем более армян, нанесет им чувствительные потери, потому что почти все земли турецких агаларов обрабатывались гяурами и почти все ремесла и вся торговля находились в их же руках. Естественно, что переселение такой массы рабочего люда должно было отразиться на стране огромными убытками, и гордые, ленивые турки, не зная каким образом остановить это начавшееся движение, начали распускать различные нелепые вымыслы. К сераскиру и даже в Константинополь полетели доносы и жалобы, что армянское духовенство, пользуясь присутствием в крае русского войска, переселяет христиан насильственно, а русское начальство тайно покровительствует этим непозволительным мерам. Одним словом и здесь происходило все то же, что два года тому назад происходило в Персии, и представителю русской власти в крае, генералу Панкратьеву, пришлось упорно бороться с теми затруднениями, которые противопоставлялись ему турецкими сановниками, в особенности по вопросам переселенческим. Анатолийский сераскир и новый правитель Арзерумской области, Хаджи-Гассан-паша, человек, пользовавшийся особым доверием султана, изыскивал все способы вмешиваться в управление завоеванными провинциями. Собирание податей и реквизиций встречало большие затруднения; всякое законное требование наше называлось притеснением, правосудие – строгостью; выдумывались разные нелепые события, и турецкие власти просили о прекращении несуществующих беспорядков. А между тем, под шумок, в одном из арзерумских санджаков, непосредственно подчиненных нам, сераскир собрал триста молодых армян и тайным образом отправил их в Константинополь во вновь формировавшиеся там рабочие батальоны. К счастью, Панкратьеву своевременно дали знать об этом насилии, и несчастные армяне были возвращены с дороги.
В первое время трудно было определить число переселенцев. Пока христиане видели в Турции наше правление, их ничто еще не побуждало к оставлению родины. Но когда войска тронулись из завоеванных турецких пашалыков, тогда греки и почти все армяне, покинув свои жилища и оставив все, что привязывало их к родине, пошли со своими семьями за нашими войсками. Подобно ветхозаветным временам, в челе народного движения стояли высокие пастыри церкви. Они подкрепляли народ своим влиянием и воодушевляли его собственным самоотвержением. К числу таких замечательных личностей принадлежал в то время архиепископ Карапет, стоявший во Главе арзерумской епархии. Высокие качества этого достойного служителя церкви, его непрерывная энергичная деятельность на пользу любимого им народа, и тот переворот, который совершился под его влиянием в жизни турецких армян в 1830 году – такие крупные явления, что величавая фигура этого монаха невольно выдвигается вперед и останавливает на себе внимание.
Вот что сохранилось о нем в армянских преданиях.
В 1770 году, с лишком за сто лет до нашего времени в Великой Армении, в деревне Хунут, жил один армянин по имени Карапет Егик-оглы. По своим несметным богатствам и мудрости он пользовался таким уважением, что даже арзерумский паша назначил его одним из восьми судей родного ему Испирского санджака, и турки, впервые увидевшие в своем судилище гяура, стали называть Карапета не простым армянином, а происходившим от царской крови Багратидов. Мало-помалу, кажется и сам Карапет освоился с этой мыслью и, оставив свое старое прозвище Егик-оглы, стал называться Багратуни.
Когда он умер, громадные богатства его перешли к двум его сыновьям, Григорию и Арутину, которые, раз навсегда отказавшись от общественной службы, стали заниматься торговлей и скоро удвоили свое состояние. Но насколько были известны наследники Карапета своими несметными сокровищами, настолько же – говорит народное предание – известен был во всей Испирской округе нищий армянин Торос небывалой красотой своей тринадцатилетней дочери, которую звали Арегназаной.
Григорий полюбил эту бедную девушку; Арегназана отвечала ему взаимностью, но о свадьбе им нечего было и думать – родные Григория никогда не согласились бы на такой брак, да и слишком много у него было соперников в лице турецких сановников и самого испирского правителя, Мехмет-Дери-бека, который уже наметил ее для своего гарема. Турки не церемонились тогда с христианами, и не только похитить бедную девушку, но отнять и законную жену у гяура, отнять грубой силой, не тратя золота, не требуя даже взаимной любви злополучной жертвы, было делом весьма обыкновенным. Григорий тосковал о жалком жребии, готовившемся Арегназане, но не смел ничего предпринять, опасаясь и мщения турок, и гнева своей матери, которая с презрением смотрела на нищую девочку.
Но судьба, управляющая людьми, сама решила вопрос, кому должна принадлежать Арегназана. Однажды вечером бедный Торос услышал от своих соседей, что люди Мехмед-бека несколько раз проходили мимо его дома и по их совещаниям можно было догадываться, что они в ту же ночь собираются похитить его Арегназану. Обезумевший от горя Торос кинулся за помощью в дом Багратуни, куда до тех пор не смел переступать и порога; он умолял их, как сильных и знатных людей, спасти честь его дочери во имя религии. Чувство веры иногда придает такую силу и мужество человеку, что он, забывая все: и славу, и почесть, и даже страх перед сильными мира весь отдается этому святому религиозному чувству. Так случилось и со старухой Багратуни. Услышав о намерении турок омасульманить христианку – пусть эта христианка была в ее глазах последней партией – она призвала своего сына Григория, торжественно сняла со стены фамильную икону и, благославляя его на брак с Арегназаной, сказала: “Спеши – иначе турки погубят христианскую душу”. Поручив невесту охране нескольких храбрых армян, Григорий в ту же ночь увез ее в деревню Кан, в часе пути от Арзерума, и там совершилась их свадьба.
Шли годы. Молодая чета продолжала жить в Арзеруме, где ее не могла постигнуть мстительная рука Мехмед-бека, и наслаждалась тихим семейным счастьем, скоро увеличившимся еще рождением сына, названного Оганесом. Малютка рос, обнаруживая замечательные способности и задатки такого характера, который впоследствии, окрепнув среди житейских испытаний, развился в сильную, непреклонную волю и сделал его одним из выдающихся служителей армянской церкви. Странная судьба готовилась этому маленькому Оганесу. Ему было десять лет, когда умер его отец; мать скоро вышла за другого, а новый отчим сумел прибрать к своим рукам огромное состояние Арегназаны, и Оганес остался нищим. Все, что сделал для него отчим,– это отдал его на воспитание к какому-то мастеру, занимавшемуся выделкой шелковых материй. Дурное обращение грубого ремесленника, голод, нужда, а может быть, и побои заставили Оганеса бежать в город Егин, где судьба случайно свела его с архиепископом Михаилом. Заметив в мальчике необыкновенные способности, Михаил принял в нем живое участие, отправил его в Константинополь, сам следил за его успехами и, когда Оганес окончил курс, он рукоположил его сначала в дьяконы, а потом посвятил и в монашеский сан, под именем Карапета. Так началась духовная карьера будущего знаменитого пастыря армянской церкви.
Когда Карапет в 1811 году, уже в сане архиепископа, принял на свои рамена управление арзерумской паствой, почти все монастыри и церкви находились в руках у турок, отобранные за недоимки. Карапет своей бережливостью и даже коммерческими оборотами удвоил церковные доходы и обратил их на выкуп монастырей и на помощь страждущим. Наступал ли голод – Карапет кормил народ, осиротеет ли семья – дети получали образование на церковное иждивение, попадал ли кто-нибудь в беду – и Карапет являлся ходатаем за него перед турецким правительством. При своем уме и железном характере Карапет поставил себя так, что само турецкое правительство во всех делах, касавшихся армян, обращалась к нему, и даже через него получало подати, так как Карапет отстранил от этого дела турецких чиновников, зная насколько они эксплуатировали простой народ. Чтобы со своей стороны быть аккуратным, Карапет завел особые кружки, куда каждый армянин делал посильные вклады, и эта национальная касса шла специально на уплату податей, чтобы помочь неимущим. Как представитель своего народа, Карапет отвечал за все его поступки, а так как каждый турецкий чиновник только и ждал случая придраться к мелочам, чтобы сорвать пешкеш или взятку, то Карапет был часто заключаем в тюрьму и даже приговаривался к повешению. Он вспомнил об этих пережитых минутах даже на своем смертном одре и писал к своей пастве: “Деды и отцы ваши знали хорошо, да и среди вас есть много еще очевидцев того, как много неприятностей и огорчений переносил я в земле османлыкской от грубых магометанских властей, врагов святой нашей религии. Сколько раз по обязанности моей, из любви к моей пастве, я переносил обиды и горечи, равносильные самой смерти…”
С началом турецкой войны в 1828 году положение армянского народа, а с ним и Карапета, значительно ухудшается; их жизнь и имущество подвергаются открытым опасностям; никто не стесняется сделать зло армянину. После побед Паскевича в Ахалцихском пашалыке, арзерумские турки, по природной своей недоверчивости, стали искать различных суеверных причин, чтобы предать мечу всех христиан, опасаясь, чтобы они не перешли на сторону русских и еще более не ухудшили бы их положения. Задумав этот план, турецким властям прежде всего нужно было сокрушить сильного покровителя христиан, в лице самого архиепископа Карапета.
И вот, однажды, в воскресенье, когда Карапет служил обедню, ему дали знать, что за ним явились турецкие солдаты. Епископ должен был прервать литургию. В глубоком умилении он преклонил колени перед алтарем, поручая себя и свой народ покровительству Бога, и вышел из храма. Его тотчас арестовали и под конвоем повели к паше. Народ в ужасе разбежался из церкви. Карапет уже слышал, что власти ищут только случая, чтобы погубить его и думал, что ему не придется более увидеть свою паству. Под влиянием жгучего солнца и душевных волнений Карапет вдруг почувствовал себя дурно и упал на каменные плиты улицы. Оторопевшие солдаты не знали что с ним делать. К счастью, в это время подоспел монастырский служка Георгий, и глоток принесенной им холодной воды привел епископа в чувство. “Что это?.. Зачем эта вода?..” – спросил он у Георгия. “Отец святой! – отвечал слуга.– Посмотри, в каком положении ты находишься”. Тут только почувствовал архиепископ боль в голове и заметил, что его лицо и платье были залиты кровью. Но ему не дали даже оправиться и повели дальше. В огромной дворцовой зале, куда ввели наконец Карапета, заседало множество турецких сановников и присутствовал сам сераскир. Совещание еще не кончилось, и архиепископ, стоя, должен был ожидать решения своей участи. Наконец приговор был объявлен. Вина Карапета заключалась в том, что накануне, к субботний день, армяне самовольно заперли лавки, и местная полиция была убеждена, что они разошлись по домам для того, чтобы удобнее составить заговор против правительства. Участвовал ли сам Карапет в этом заговоре или не участвовал – в глазах турецких судей не составляло важности; довольно того, что он был главой народа и должен был отвечать за его поступки. А так как время было военное и возмущение армян могло предать Арзерум в руки неверных, то архиепископ в пример и страх другим приговаривался к смертной казни через повешение. Жестокий приговор не смутил доблестного пастыря; но он боялся, что это послужит сигналом к истреблению всех вообще христиан и решил защищаться против несправедливого обвинения. Карапет объяснил, что лавки действительно были закрыты, и даже закрыты по его приказанию, но потому что накануне был турецкий праздник, и торговать в этот день со стороны армян было бы непростительной дерзостью. “Очень хорошо,– сказал сераскир,– но турки, сидя дома, не могут задумывать заговоров, тогда как армяне ищут только предлога, чтобы собирать запрещенные сходбища”.– “За спокойствие армян я отвечаю,– сказал Карапет,– но оно нарушено и не было, а если вам неприятно, что лавки закрыты вчера и сегодня, я немедленно велю отворить их”.– “Теперь уже поздно,– отвечал паша,– решение совета должно быть исполнено”.
Но в это время один из судей, заметив кровавые пятна на лице и платье епископа и может быть тронутый жалким положением человека, которого не любили, но которому не могли отказать в уважении, предложил изменить решение совета и вместо смертной казни, определенной одному епископу, назначить тяжелые военные работы всему его народу. Было это так устроено заранее или решение действительно существовало и было отменено – не известно; но Карапет получил свободу под условием заставить свой народ возвести вокруг Арзерума и у горы Св. Знамения сильные окопы. Через два часа, несмотря на праздничный день, тысячи армян с лопатами, кирками и тачками, вышли из городских ворот и принялись за работу. Сам Карапет, переодевшись в простое платье монастырского служки, работал вместе с другими, не позволяя себе отдыхать ни минуты. Эти мучительные работы продолжались четыре месяца кряду, продолжались и в будни и в праздники, с утра до позднего вечера, и во все это время армянские семьи, лишенные материальной поддержки, переносили нужду и лишения, моля только Бога, чтобы скорее пришли русские. Все средства церкви, собранные епископом с таким трудом и бережливостью, ушли на прокормление этих несчастных семей, и наконец совершенно иссякли. Карапет торопил всех с окончанием работ.
До сего времени осталась еще песня, свидетельствующая, с каким терпением и безропотной покорностью к судьбе переносили армяне это тяжелое время:
Москва идет к Арзеруму, и горе упало на головы армян. Строгий приказ сераскира отнял сон у глаз наших, покой у наших семейств. Идем к окопам, к окопам!..
Придет зима, начнутся бураны, и положение наших семей сделается печальным. Оставили мы свои дома и пришли к святому Знамению копать окопы, окопы…
Лопаты, кирки, тачки – все пущено в дело. Малые и большие из нас переболели. Но если бы не благословение святого архиепископа – всем бы несдобровать нам. Будем копать окопы, окопы…
Однажды, когда громадные сооружения уже оканчивались, Галиб-паша, благодаря Карапета, с гордостью сказал ему: “Пусть теперь подойдут сюда русские, посмотрим, в каком положении они очутятся”.– “Извините, паша,– отвечал архиепископ,– если русские только дойдут до окопов, то им уже нетрудно будет перешагнуть через них”. Это вырвавшееся слово зародило опять сомнение в верности Карапета, и за ним учредили строгий секретный надзор.
Вскоре после этого от ачмиадзинского католикоса пришло послание на имя турецких армян, в котором он призывал их, во имя Бога, помогать русским, как братьям во Христе, когда победоносные войска их подойдут к Арзеруму. Послание это, однако же, попало в руки турецких пашей. Карапет опять был предан уголовному суду, но опять успел оправдаться, доказав на суде, что подкупленный переводчик совсем иначе передал пашам содержание этого послания. “Впрочем,– сказал он в заключение,– если бы оно имело и то значение, которое ему придаете, то, попав в мои руки, оно оказалось бы безвредным, ибо я силой своей духовной власти никогда не допустил бы возмущения в городе”. На этот раз Карапет отделался крупным пешкешем, а на армян наложена была контрибуция: сераскир приказал Карапету в три дня поставить двести лошадей для перевозки из города в лагерь провианта… У арзерумских армян, занимавшихся преимущественно ремеслами, да городской торговлей, не было и десятой части такого количества вьючных животных, и, несмотря на то, в назначенный срок лошади были поставлены, хотя для этого пришлось не только затратить церковные суммы и национальную кассу, но и распродать большую часть скота, имевшегося у жителей. Но Карапет не щадил ничего, хорошо понимая, что неисполнение приказа может повести за собой еще более тяжкое бедствие – грабеж армянских домов. Сераскир остался очень доволен усердием армян, он даже воскликнул: “Молодец, черноголовый эфенди!” – и пригласил его к себе на кофе, но Карапет отказался, опасаясь отравления.
Наконец наступило лето 1829 года. Чем ближе подходили русские, тем хуже становилось христианам; многие из них были убиты разъяренной чернью; многие дома и лавки разграблены. В последние дни никто не осмеливался показываться на улицах, и даже сам архиепископ принужден был скрываться переодетым в глухом подвале одного армянина. Отсюда он отправил Паскевичу письмо, в котором описывал бедственное положение христиан и указывал слабые стороны городских укреплений, на которые могла быть наведена атака. Это письмо было первое, которое раскрыло перед Паскевичем картину внутреннего состояния города и много способствовало его настойчивости в ведении переговоров. Армянин, доставивший это письмо, зашитое в лапте, был щедро награжден и отправлен обратно со словесным изъявлением признательности русского вождя к достойному архипастырю. Как светлый луч, на мгновение проникнув в сырое подземелье узника, разгоняет ночные призраки, полные страха, так и привет русского полководца озарил собой скорбные минуты, переживаемые тогда армянами. А этих минут было не мало, особенно двадцать седьмого июня, когда толпы мусульман в исступлении носились по улицам, требуя смерти русского посланника. Ничего не было легче, как бросить в эту обезумевшую толпу одну только искру, и кровь христиан залила бы собою стогны и улицы Арзерума. Но, к счастью, в общей сумятице о них забыли, а потом, когда депутация повезла городские ключи победителю, о кровавой расправе думать было уже не время. Так дивным промыслом Божиим спасены были тысячи несчастных семейств, истребление которых запятнано было только лишней кровью и без того кровавые страницы Оттоманской империи.
Весть, что Арзерум сдается, как электрическая искра, пробежала по душным подвалам, где скрывались армяне, и вызвала на Божий свет невольных затворников. Толпы наводнили улицы и, мало того, бросились даже грабить турецкие дома; произошло несколько случаев насилия. Народ, которого жизнь, права, имущество, семейная честь и религия были так долго оскорбляемы, не мог воздержаться от порыва к, отмщению. К счастью, в это время вернулся Карапет, ездивший на встречу к Паскевичу, и с его прибытием беспорядки прекратились. Но с этой минуты Карапет уже видел, что армянскому народу оставаться у турок нельзя, и исподволь стал подготовлять его к мысли о выселении в Россию.
Только человек с таким громадным влиянием, каким обладал Карапет, и мог подвинуть народ на эту крайнюю меру. Кто знает домовитость сельских армян, привычку их к родному очагу, привязанность к могилам предков, тот поймет, как было трудно решиться им на это переселение. Но Карапет подчинил себе сердца и волю народа. Он властным словом указал ему путь, по которому должно идти – и массы турецких армян слепо двинулись за своим архиепископом. Более четырнадцати тысяч семейств – до девяноста тысяч душ – отдались тогда под покровительство русского государя. Край видимо пустел, города теряли наиболее трудолюбивую часть своих жителей, так что даже в самом Арзеруме турки затруднялись чинить свои водопроводы и производить самые простые ремесла. В Царьграде забили тревогу и даже прислали оттуда армянского епископа Варфоломея, взявшего на себя непосильный труд уговорить христиан не покидать своей родины. Панкратьев позволил Варфоломею открыто вести свою пропаганду; он даже сам возил его до Гассан-Кале, обгоняя тянувшиеся обозы переселенцев. Недружелюбно встречали, однако, армяне султанского епископа, “волка в овечьей шкуре”, как они называли его в беседах между собою. Один старик, возмущенный его речью, сказал ему: “Если бы не ты, а сам Христос, сошедший с небес, стал бы внушать нам желание возвратиться в Турцию, то мы не последовали бы и его совету”. Так и уехал Варфоломей ни с чем.
Был май 1830 года, когда тысячи переселенцев тронулись в путь. Такое огромное число переходивших в наши границы не по частям, не партиями, а двинувшихся разом, опрокинуло все расчеты, составленные комитетом и потребовало со стороны русских властей необычайных усилий и попечений, чтобы спасти их в пути от гибельной нужды и болезней. Недостаточность денежного вспомоществования, розданного переселенцам при подъеме их с места – эти пособия не превышали шести-семи рублей на каждую семью,– заставило правительство озаботиться заблаговременно закупкой хлеба, открыть попутные казенные магазины, но, несмотря на все эти меры, совершенно обеспечить переселенцев было невозможно. Особенно страдали Гюмишханинские греки. Они собрались в путь менее нежели в сутки, и явились в Арзерум не только без хлеба и необходимой одежды, но даже без транспортных средств, чтобы двинуться дальше. Заброшенные в глушь Лазистанских гор, в черту расположения турецких войск, они находились в полной власти сераскира, который, не успев остановить переселения в Арзерум, Карс и Баязет, мог выместить на них всю накопившуюся злобу, и, с турецкой точки зрения, быть может остался бы даже и правым. Если переселение армян наносило тяжкий удар общественной жизни во всех ее проявлениях, то переселение греков, единственных рудокопов в этой стране, ставило на карту интересы чисто государственные, так как с их удалением богатейшие серебряные и медные рудники в Гюмюш-Хане и Бейбурте оставались в руках турецкого правительства мертвым капиталом. И гюмюшханинцы, понимая это, спешили спасать только жизнь, покидая на произвол врагов все достояние, нажитое трудами целых поколений. К этому нужно прибавить, что в гористом Гюмюш-Хане жители не держат арб, а греки не имели у себя даже вьючного скота, и трудный путь пришлось совершить пешком, ночуя под открытым небом, над страшными пропастями; мужчины шли навьюченные разным скарбом, который могли только забрать, матери несли на руках малюток. И, глядя на эту печальную картину переселения, невольно приходили на память слова святого Евангелия: “Молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимою”. К счастью, стояла прекрасная весенняя погода, и помюшханинцы, изнуренные трудным путем, кое-как добрались наконец до Арзерума, где уже могли считать себя в совершенной безопасности. Но здесь возникал вопрос, как двигаться далее, и взоры всех невольно обращались на человека, который в эти трудные дни один держал в своих руках судьбы переселенцев. Огромная нравственная ответственность лежала на этом человеке,– и было о чем подумать старому Карапету, видя, как бедствуют не только греки, но и его единоверцы, не имевшие возможности лишь с собой и сотой доли того, что составляло их достояние. А к этому прибавлялись еще вопросы и будущего. Поднимаясь с места весной, жители на старых местах не дождались жатвы, а на новых – пропустили время посевов, и единственно, что оставалось им – это надежда на великодушную помощь русского правительства, которое не откажется прокормить их до будущего урожая.



![Д[енис] В[асильевич] Давыдов на эриванской границе](/covers_200/522255.jpg)





