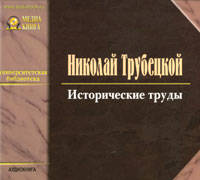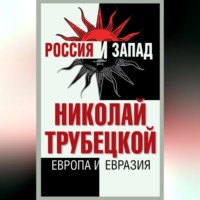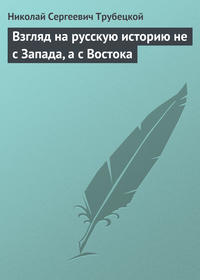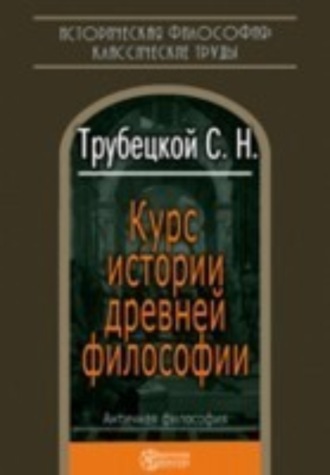 полная версия
полная версияКурс истории древней философии
Защитительная речь Сократа рассеяла недоразумения у некоторых, но в результате она увеличила число голосов обвинения. Голос Анита, голос фарисейского национализма и православия пересилил голос свидетеля истины. Тут было недоразумение и непонимание, но и нечто большее, чем недоразумение и непонимание; тут была и вражда, ожесточение против высшей правды, о которой свидетельствовал Сократ, или, как выражается B.C. Соловьев, – «глубина зла, какую нельзя объяснить одним незнанием и непониманием».[129]
2
Что такое «Апология Сократа» и какое значение имеет она в качестве исторического свидетельства о жизни и деятельности Сократа, о его процессе, о его защите перед судьями? Вот вопрос, который до сих пор обсуждается критиками с различных точек зрения.
«Апология» не есть стенографический протокол судебного заседания, и она не есть точная запись защитительной речи Сократа. Это не фотография, а художественный портрет, изображение, в котором действительные воспоминания о том, что было сказано учителем, соединяются с тем, что его незабвенный образ продолжает говорить Платону в ответ на обвинения, выставленные противниками, старыми и новыми, начиная с Аристофана, который вывел Сократа в своих «Облаках», когда Платону было всего четыре года (424 г.), и кончая теми софистами, которые, как Поликрат, писали против него обвинительные речи через несколько лет после его смерти.
Отказываясь обдумывать свою апологию, Сократ, по словам Ксенофонта, отвечал, что он наилучшим образом позаботился в ней всей своей праведной жизнью. Произведение Платона есть творческое изображение именно такой идеальной апологии, которая является плодом, венцом всей жизни Сократа.
Отсюда ее неотразимое впечатление: кажется, что Сократ не мог говорить иначе, что он должен был говорить именно так, как он говорит у Платона. Отсюда объясняется то, что в «Апологии» видели чуть ли не подлинный текст Сократовой речи – иллюзия, которая показывает всю силу художника, увековечившего просветленный образ Сократа. В наш век филологической критики эта иллюзия была поколеблена, причем, как это обыкновенно бывает, иные исследователи ударились в крайность: убедившись, что гениальное изображение Платона не воспроизводит действительность с фотографической точностью, они стали отрицать самое сходство и признали Апологию Платона «чистой фикцией», лишенной исторического характера. На самом деле следовало ограничиться правильным наблюдением того, что «Апология» не есть простой судебный отчет. Укажем на некоторые основания в пользу такого взгляда. Первое обвинение против Сократа состояло в том, что он вводит религиозные новшества (таков действительный смысл слов χοινα δαιμονια[130]) и что он не чтит богов, признанных государством. В «Апологии», приписываемой Ксенофонту, Сократ начинает с ответа на это обвинение, указывая на то, что он всегда публично исполнял свои религиозные обязанности, участвуя в установленном культе, и что он не признавал никаких богов помимо Зевса, Геры и тех, которые чтимы вместе с ними. У Платона он не говорит об этом ни слова, а защищается против обвинения в безбожии, которое было выставлено против него не на суде, а в театре и литературе. Что Сократ в своей речи мог иметь в виду и такие обвинения своих многочисленных врагов, – это вполне возможно и в том случае, если он не обдумывал заранее своей речи; но чтобы он имел в виду одних своих литературных противников, не отвечая на самое обвинение – это маловероятно и помимо свидетельства Ксенофонта. Есть и другие формальные основания, заставляющие нас видеть в произведении Платона нечто иное, чем простой судебный отчет: во-первых, беседы с Мелитом, этот маленький «сократический диалог», чисто литературного характера, который едва ли мог иметь место в действительности и в котором вдобавок Сократ выступает с чисто софистической аргументацией, а Мелит обращается в послушного собеседника, беспомощно дающего ему реплику. Во-вторых, пространное заключительное слово Сократа, с философскими рассуждениями о жизни и смерти: это слово, влагаемое в уста Сократа по постановлении смертного приговора, также едва ли могло быть сказано и услышано, так как судоговоренье кончилось и притом среди настроения, крайне враждебного Сократу. В-третьих, обращает на себя внимание отсутствие свидетельских показаний, которые всегда приводятся в дошедших до нас судебных речах аттических ораторов и которые несомненно должны были приводиться и здесь: Ксенофонт о них упоминает, и сам Платон их предполагает.[131]
Таким образом, мы стали бы напрасно искать в «Апологии» Платона дословной передачи Сократовой речи. Но дает ли это нам право признавать ее «чистой фикцией»? Прежде чем это сделать, мы должны, во всяком случае, ответить на вопрос, что собственно могло заставить Платона уклоняться от истины или сочинять другую речь, отличную от той, какую Сократ действительно произнес в его присутствии перед афинскими судьями? В других диалогах он влагает в уста Сократа свое собственное учение. Но здесь мы этого не видим, хотя в отдельных местах «Апологии» и можно найти указание на подлинное учение исторического Сократа, точнее, на основные жизненные принципы этого учения. Совершенный отказ от натурфилософии; требование самопознания и самоиспытания, самоуглубления; философский скепсис, обличающий несовершенство всякого человеческого знания и вместе отправляющийся от идеала совершенного, божественного разума; вера в такой разум и связанный с этой верой глубокий нравственный идеализм; признание промысла и признание безотносительной нравственной ценности человеческой личности, – души человеческой; наконец самый интеллектуализм Сократа, его учение о том, что доброе есть вместе хорошее и полезное, – все эти черты нашли в «Апологии» яркое, отчетливое выражение. И вместе мы не находим нигде ни малейшего намека на специально платоновские мысли или учения. В отличие от других сократовских диалогов, мы не находим здесь никакого отвлеченного рассуждения, никакого отвлеченного вопроса вообще.
Весь интерес сосредоточивается вокруг личности Сократа, которая изображается во весь рост, в сознании своего религиозного служения, в своем отношении к богам и к людям, к государству, к общественной деятельности, к философии и софистике, к друзьям, к молодежи, к ближним вообще. В отдельных местах «Апологии Сократа» можно искать отголоски настроения Платона, например, в рассуждении о ничтожестве благ человеческой жизни; но это только набежавшая тень, которая еще ярче заставляет выступать духовную ясность, безмятежно светлое настроение самого Сократа; то же следует сказать о том сдержанном пафосе, о том торжественно-религиозном настроении, которое сквозит в речи Сократа. Быть может и тут Платон усилил краски, как художник, который достигает высшей идеальной правды не там, где он гонится за внешним сходством, а там, где он, следуя своему вдохновению, освещает и выдвигает то, что составляет самую жизненную суть воспроизводимого им образа. И в сдержанном пафосе «Апологии», в том сознании высшего достоинства и высшего призвания, в котором говорит Сократ, какая спокойная, величавая простота какое полное отсутствие того кичливого самовосхваления, которое мы находим в «Апологии» Ксенофонта!
Таким образом, если «Апология» Платона представляет собою отступления от действительности, то это, во всяком случае, не в каком-либо догматическом или теоретическом интересе. Остается предположить, что они вызваны литературными, художественными требованиями или апологическою целью. Но художественно-литературные требования заключаются в наибольшей яркости и правдивости изображения – цель, которая всего менее достигалась бы изображением чисто фиктивным, представляющим простое искажение действительности. Такое искажение было бы бесцельным и недопустимым и с точки зрения апологетической, а следовательно, мы не видим основания ее допускать. «Апология» Платона, дающая нам законченную характеристику Сократа в рамках его судебной речи, представляет собой не искажение действительности, но и не вполне реальное ее воспроизведение, а идеальное художественное изображение. Это «стилизированная истина», stilisirte Wahrheit, как выражается Гомперц; и, конечно, никакой анализ не поможет нам различить, что в «Апологии» было действительно сказано самим Сократом, а что было только внушено им его гениальному ученику. Платон воспроизводит эту речь, опуская то, что представляется ему менее существенным, выдвигая, обобщая типическое. Он обобщает как художник, он обобщает и как апологет, ибо та апология, которую он дает, заключает в себе ответ не одним случайным обвинителям, каковы были Анит, Мелит и Ликон, а всему афинскому обществу, которое стоит за ними, ответ на все обвинения, недоразумения, клеветы, каким подвергался учитель в течение более четверти века. Точнее, в «Апологии» Платона ответ Сократа его случайным обвинителям получает общее значение. Это правда о Сократе, правда, которой проникнут Платон и которую он хочет высказать не иначе, как устами самого Сократа. «И теперь я не раскаиваюсь в том, что я защищался таким образом и скорее предпочитаю умереть после такой защиты, нежели остаться живым, защищаясь иначе» (38 Е). Эти слова, которые Платон заставляет сказать Сократа, равносильны клятвенному подтверждению верной передачи апологии Сократа, – засвидетельствованию того, что в ней нет лжи или прямого искажения действительности.
3
«Сократическая борьба», борьба за Сократа и против Сократа не кончилась сего смертью, а продолжалась с новой силою. «Апология» Платона была далеко не единственной в своем роде. Несмотря на все непонимание, которому он подвергался, Сократ пользовался не только самым восторженным поклонением своих друзей, но и самой громкой известностью и популярностью: это доказывает аттическая комедия, которая делает его одним из излюбленных своих героев – кроме Аристофана, Телеклид, Евполис, Амейпсий, Каллий выводят его на сцену; это доказывает свидетельство Дельфийского оракула в ответ на вопрос Херефонта,[132] это доказывает наконец и сам процесс Сократа. Еще при жизни Сократа среди его друзей и сторонников, в противовес комикам, выводившим его на сцену, развивается новая литературная форма – так называемый сократический диалог, в котором Сократ выводится в качестве главного действующего лица философского разговора. Что Платон писал такие диалоги еще при жизни учителя, это признается многими, и это всего убедительнее показывает B.C. Соловьёв в блестящем рассуждении в конце I тома. По всей вероятности, такие λογοι σωχρατιχοι οисал не только один Платон. Когда Сократ умер, во всяком случае, к нему присоединились многие, и апология Сократа, по-видимому, служила темой для многих произведений этой сократической литературы: по крайней мере Ксенофонт говорит нам, что многие уже до него написали на эту тему. Быть может, он имел в виду апологию Платона, хотя это и спорно, как мы увидим далее; быть может – речь Лисия, написанную в ответ на обвинительную речь против Сократа, – риторическое упражнение, составленное софистом Полнкратом около 393 года.[133] Кто были остальные из «многих» нам неизвестно, и мы лишены возможности сравнить их произведение с «Апологией» Платона, что, разумеется, помогло нам глубже понять и оценить ее особенности, ее место среди других памятников «сократической» литературы. Единственное уцелевшее произведение, которое мы можем с нею сопоставить, есть небольшое, наивное сочинение Ксенофонта, перевод которого мы предлагаем читателю.[134] Судьба его была довольно плачевна, поскольку оценка его почти всегда бывала обратно пропорциональна оценке гениального произведения Платона, с которым оно, очевидно, не выдерживает сравнения ни в каком отношении. В наши дни, однако, когда «сверхкритика» поколебала авторитет показаний Платона, оценка маленькой апологии Ксенофонта значительно повысилась: нашлись даже ценители, которые, отвергнув историческую ценность большой «Апологии», признали маленькую за подлинное историческое свидетельство о речи Сократа, чем показали меру своего критического чутья[135]
Другие, наоборот, и притом столь авторитетные судьи, как Целлер или Виламовиц Меллендорф,[136] считают Ксенофонтову «Апологию» безусловно неподдинной и не имеющей никакой цены. По-видимому, однако, и то, и другое мнение – крайности: апология Ксенофонта несомненно уступает «Апологии» Платона во всех отношениях и тем не менее она является и подлинной и ценной, поскольку она сохраняет отдельные исторические черты, опущенные этой последней, и дает нам важные указания для ее оценки и понимания.
Подлинность Ксенофонтовой «Апологии» доказывается прежде всего тщательным анализом ее языка: это несомненный подлинный язык Ксенофонта, с его излюбленными выражениями, его особенными отступлениями от чисто аттической речи, которые еще в древности объяснялись странствованиями и лагерной жизнью автора.[137] Подлинность этой апологии доказывается с тем неподражаемым простодушием, тем особенным специфическим пониманием, или, лучше сказать, непониманием Сократа, которое отличает автора «Воспоминаний»: те частные различия или противоречия, какие отмечались между Ксенофонтовой «Апологией» и «Воспоминаниями»,[138] отходят на задний план и объясняются простым различием источников и литературных влияний, когда мы видим, каким образом автор этой апологии настаивает на строгости благочестия Сократа и самую смерть его объясняет утилитарными соображениями.
При написании своей «Апологии» Ксенофонт руководился как свидетельством Гермогена, так и показаниями других предшественников.[139] Произведения этих последних, судя по Ксенофонту, не были свободны от той литературной ошибки, в какую впадает он сам, влагая похвальное слово Сократу в уста самого Сократа. По этому поводу даже Ксенофонт выражает некоторое недоумение: во всех апологиях Сократ сам себя хвалит, и если все так пишут, значит так оно и было; но только зачем же он так неразумно себя хвалит? Ведь этим он, очевидно, мог лишь восстановить против себя своих судей.
Поведение Сократа представлялось загадочным для многих из его друзей: онкак бы сам вызывал свой смертный приговор; противники его не ожидали даже, что он явится на суд: они полагали, вероятно, что он покинет Афины, подобно Анаксагору или Протагору, как это можно заключить из слов Анита (Plat. 29 С). Как же объяснить его вызывающее поведение на суде, в особенности после того, как он был признан виновным и когда ему предоставлено было высказаться по поводу назначения ему наказания? Судя по словам Ксенофонта, будто никто из его предшественников этого не объясняет, можно было бы подумать, что «Апология» Платона ему неизвестна. Как бы то ни было, сомнения его разрешил Гермоген, от которого он узнал, что Сократ заранее предпочел умереть в полном обладании своих душевных и телесных сил, дабы избежать немощей и недугов старости: «велеречие» Сократа, возбудившее против него судей, соответствовало его намерению. И вот, воспользовавшись этим соображением, Ксенофонт заставляет Сократа говорить самому себе похвальное слово, «сильно восхищаясь собою» (ισχυρώζ αγαμενοζ εμαυτον) θ не брезгая плохою риторикой (напр., 18… το δε τουζ αλλουζ μεν ταζ ευπαθεναζ εχ τηζ αγοραζ πολυτελειζ ποριζεσθαι, εμε δε εχ τηζ ψυχηζ ανευ δαπανηζ ηδιουζ εχεινων μηχανασθαι). Κаким образом нашлись критики, признавшие эту апологию достоверным свидетельством о действительной речи Сократа, – понять трудно, тем более что сам Ксенофонт не оставляет читателя в сомнении и со свойственной ему наивностью ставит точку над i. Передавши по-своему речь Сократа, он торопится заметить: "очевидно, и самим Сократом и друзьями, говорившими в его защиту, было сказано больше этого; но я не старался рассказать все, что было на суде, и мне было достаточно показать, что Сократ более всего дорожил тем, чтобы не быть нечестивым по отношению к богам и не явиться несправедливым к людям, а чтобы ему не умирать, об этом он не считал нужным упрашивать, полагая, что ему самое время умереть.[140] Таким образом Ксенофонт указывает цель своего произведения – поговорить о благочестии, праведности и мудрости Сократа: «не могу не вспомнить об этом муже, а воспоминая, не могу не хвалить». При этом благочестивый и суеверный Ксенофонт старается особенно подчеркнуть совершенное православие Сократа: он может умереть спокойно и сохранить о себе столь же высокое мнение, как и до осуждения, потому что оказалось, что никаких новых богов, кроме Зевса, Геры и сущих с ними, он не почитал. За свое благочестие он и удостоился от богов особого пророческого дара и свидетельства Дельфийского оракула.
«Апология» Ксенофонта имеет много литературных предшественников и передает сведения, полученные из вторых рук, так как сам Ксенофонт, в отличие от Платона, на судоговорении не присутствовал. Его «Апология» написана сравнительно поздно – в ней говорится, что Анит и после смерти пользуется худой славою, а между тем еще в начале 387 г. Анит занимал правительственную должность.[141] И тем не менее, несмотря на все это, на свой риторический характер, эта апология, как сказано, сохраняет некоторые исторические черты, опущенные Платоном. Мы отметили уже, что он упоминает о свидетелях защиты (συναγορευοντεζ φιλοι), χто он указывает ответ Сократа на обвинение в религиозных новшествах: Платон опускает этот ответ, противополагая обвинению энергичную контратаку в «Евтифроне»; воспроизводить ее в «Апологии» было бы неуместным во всех отношениях и представлялось бы погрешностью против исторической и художественной правды. С другой стороны, было бы наивным распространяться о православии Сократа, как это делает Ксенофонт. Об отношении Сократовой философии к древнему благочестию Платон предпочитал говорить особо, а здесь, в «Апологии», ему подлежало выяснить общерелигиозный характер служения Сократа.
Это становится особенно ясным при сличении обеих «Апологий» в их ссылках на Дельфийского оракула. У Ксенофонта Сократ просто ссылается на него как на засвидетельствованное свыше в ответе на обвинение в нечестии и развращении юношества, и это, по-видимому, – правильное историческое воспоминание. Затем следует риторика: приведя предсказание, Сократ приглашает судей убедиться в его истинности и под этим предлогом вдается в напыщенное прославление собственных добродетелей. У Платона, понятно, подобного безвкусия мы не находим, но самая ссылка на оракула получает у него совершенно особый смысл. Он пользуется ею чрезвычайно искусно, чтобы показать религиозное значение деятельности учителя, и вместе он как бы стремится снять с него всякий упрек в «неразумном велеречии»,[142] которое Ксенофонт, напротив того, доводит до нелепости. У Платона Сократ толкует предсказание в том смысле, что бог признал его мудрейшим из людей, дабы показать ничтожество человеческой мудрости пред мудростью божественной, так как он один признает про себя, что он ничего не знает: «на самом деле мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он хочет показать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит». Вследствие этого и обличение мнимого знания и мнимой мудрости представляется служением богу и проповедью мудрости божественной. Но этого мало: Сократ говорит, что оракул послужил началом его философской деятельности: его обличительный допрос, обращенный к ближним и в особенности к тем, кто почитались в чем-либо мудрыми и сведущими, вызван будто бы одним стремлением проверить и подтвердить истину слов оракула. Такой прием чрезвычайно искусен, показывая и объясняя в доступном для всех образе ту внутреннюю связь, какая существовала в действительности между положительным содержанием, идеальной сутью философии Сократа и отрицательной формой, в которой она являлась. И тем не менее это все-таки лишь прием, что как оракул, на который ссылается Сократ, так и самый вопрос Херефонта, его восторженного почитателя, уже предполагают не только начало философской деятельности Сократа, но и его известность. И чем искуснее такой прием, тем более вероятно приписывать его Платону.[143] По-видимому, философ, ссылаясь на оракула, указывал на него как на высшее свидетельство своего религиозного служения, как на внешнее подтверждение своего внутреннего оракула; он говорил перед судьями о своей миссии, своем посланничестве, как это показывает Платон (29–31), и это-то и показалось судьям тою «хулою», за которую он был признан виновным и приговореным к смерти.
И таким образом из этого сопоставления обеих «Апологий» оказывается, что Платон ближе к истине, даже там, где он, по-видимому, от нее отклоняется. Пусть у Ксенофонта случайно сохранился первоначальный, более простой смысл ссылки на Дельфийского оракула; он искажает его тем, что он влагает в уста Сократа сейчас же вслед за нею. Пусть Платон, напротив того, дает несколько искусственное толкование оракула, – он тем глубже и вернее раскрывает религиозный смысл Сократовой мудрости. Ксенофонт стремится показать, что Сократ всего более стремился быть благочестивым и не делать несправедливости, а смерть ни во что не ставил (22); у Платона сам Сократ показывает это на деле (23 D). Ксенофонт стремится оправдать «велеречие» Сократа, которое самому ему казалось неразумным, желанием Сократа вызвать смертный приговор, что могло служить оправданием судьям скорее, чем осужденному. У Платона Сократ говорит в мужественном сознании своего высшего достоинства, как носитель высшей правды и вместе с верою и смирением перед тем богом, которому он служит. Он не боится смерти и не сделает ни одного шага, чтобы избегнуть ее, но он ее и не ищет; он не только отказывается назначить себе наказание, как свидетельствует Ксенофонт, но требует себе содержания в Притании; но вместе с тем он и не отказывается уплатить денежной пени и не мешает друзьям платить за него. Чтобы показать отношение Сократа к ожидающей его смерти, Ксенофонт передает его беседы с друзьями до и после процесса; Платон, в противность вероятию, заставляет Сократа высказывать философские размышления о жизни и смерти в самой речи, в обращении к судьям.[144] Но насколько плоски и тривиальны мысли, высказываемые Сократом Гермогену, настолько размышления платоновского Сократа представляются возвышенными, проникнутыми глубокою верою в безотносительную ценность нравственного добра и правды и вместе подлинными по существу (напр., 29 А и В, или 41 С. D).
4
«Апология» Платона представляется настолько проникнутой объективным интересом – правдивой и вместе философски осмысленной характеристикой Сократа в защите его перед судом афинским, что вопрос о времени ее написания для истории внутреннего развития философии самого Платона представляется второстепенным и вместе трудноразрешимым. Отсутствие признаков специально платоновских учений здесь ничего не доказывает.
По-видимому, однако, «Апология» едва ли была написана немедленно или вскоре после катастрофы, иначе субъективное настроение Платона каким-либо образом прорвалось бы в ней, как оно прорывается в «Горгии», где чувствуется неостывшее, потрясающее впечатление перeжитoй драмы. «Апология» слишком выдержана в своей ясности и величавом спокойствии. Затем умолчание относительно ответа на первое обвинение – в нечестии – заставляет предполагать написание «Евтифрона».
Некоторые критики идут еще далее, доказывая, что если «Апология» Платона оказала влияние на автора «Воспоминаний», то она была еще неизвестна ему при написании его «Апологии», которая, как мы видели, не могла быть написана до 387–386 г., когда Анит был еще жив, а следовательно, даже не ранее конца 380-х годов.
Действительно, суждение Ксенофонта относительно предшествовавших апологий плохо подходит к произведению Платона, который гораздо глубже и вернее объясняет отношение Сократа к его смерти и несравненно лучше оправдывает его от обвинения в «велеречии». Тем не менее между обеими «Апологиями» есть совпадения в деталях, которые трудно признать случайными.
Оставляем в стороне трехчастное деление обеих «Апологий», ссылку на оракула, на демоническое знамение, собственную бедность – все это можно объяснять действительными воспоминаниями. Более обращают на себя внимание частности, например, упоминание о невинно убиенном Паламеде (Ксен. 26, Плат. 41 В), о пророческом даре умирающих (Ксен. 30, Плат. 39 В cл.) или двукратное упоминание о шуме среди присяжных (Ксен. 14 и 15,Плат. 20 E и 21 А).[145]
Влияние Ксенофонта на Платона немыслимо и недопустимо, обратное влияние допустимо, хотя, быть может, приведенные совпадения недостаточны, чтобы его доказать, и могут быть объясняемы заимствованиями Ксенофонта из какой-либо другой апологии, написанной кем-либо из свидетелей суда над Сократом. Впрочем, мы не беремся взвешивать здесь вероятия различных возможностей. Да они и не имеют существенного значения для оценки апологии Сократа.
Рассуждение о «Критоне»
Сыновнее повиновение отеческим законам есть безусловная обязанность каждого гражданина, хотя бы такое повиновение требовало его смерти. Испробовав законные пути убеждения, каждый должен подчиниться суду отечественному, хотя бы он и считал несправедливым его решение, ибо неповиновение закону в корне подрывает закон, которым держится отечество. И если мы не можем насиловать разгневанного отца, хотя бы он бил нас, или если мы не должны ослушаться воли родительской, то тем паче, перед людьми и богом, неправедно и нечестиво неуважение к закону, ослушание отечеству.