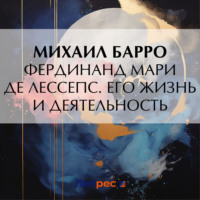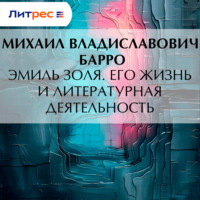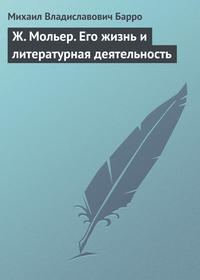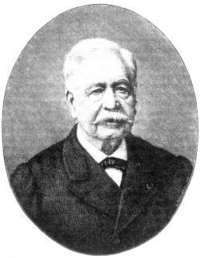полная версия
полная версияТомас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции
Не одни еретические заблуждения влекли заподозренных на суд инквизиции. По руководству Эймерика этому суду подлежали:
1) Хулители религии и виновные в ложных понятиях о могуществе Бога, все равно, говорили ли они это в пьяном или трезвом виде.
2) Все, занимавшиеся чародейством и гаданием, особенно те, которые употребляли при волхвовании священные предметы и вещества, например, святую воду и елей.
3) Всякий отлученный, не искавший примирения с церковью.
4) Укрыватели и заступники еретиков.
5) Лица, сопротивлявшиеся постановлениям инквизиции.
6) Города, правители и короли, защищавшие еретиков.
7) Власти, не отменявшие в стране или городе постановлений, несогласных с законами инквизиции.
8) Адвокаты, нотариусы и юристы, защищавшие еретиков (это правило применялось по усмотрению и только в самую раннюю эпоху первой и второй инквизиции).
9) Всякий, отказавшийся от присяги, которую требовала инквизиция.
10) Всякий, умерший в открытом или предполагаемом еретичестве.
11) Иудей или мавр, склонявший христиан к отступничеству.
12) Всякий прикосновенный к ереси словом, делом или сочинением.
13) Все преступления против нравственности, незаконное сожительство, содомия и пр.
Все это рушилось на головы главным образом тех, у кого не было покровителей, чтобы остановить карающую руку, и на людей, заведомо ненавистных инквизиторам. Располагавшие влиянием ускользали от правосудия трибунала, даже в том случае, когда их преступления были известны всему свету. Сами члены трибунала часто были повинны по инструкции Эймерика, и Вольтер вовсе не инсинуировал, когда изображал великого инквизитора любовником прекрасной Кинегунды совместно с богатым евреем. Лишь в редких случаях, при вопиющем нарушении законов и под непобедимым давлением общества, инквизиторы попадали под следствие, но, как увидим далее, их наказание имело скорее характер попустительства. Иное было положение людей без покровителей и заранее преданных усмотрению инквизиторов. По мере того, как подвигался процесс, масса этих арестованных постепенно распадалась на категории: легко подозрительных (levi), сильно подозрительных (vehementi), обращенных (reconciliati), упорных (obstinati) и оправданных. Впрочем, оправданные почти всегда считались подозрительными. Им выдавалось разрешение ad cautelam, то есть как подозреваемых в ереси, и горе было этим лицам, если они опять попадали в руки инквизиции. Рецидивистам (relaps) не было прощения… Каждый обвиненный и сознавшийся мог просить примирения с церковью. Степень наказания в таком случае уменьшалась, смотря по времени признания и по важности преступления. В период первой инквизиции примирение с церковью совершалось торжественно, в храме и в присутствии народа. В назначенный день перед обедней обвиненный в ереси ставился на амвон с открытой головою и со свечою в руках. Начиналось богослужение. После чтения евангелия инквизитор произносил речь против ереси, затем осужденный на покаяние перед крестом и евангелием произносил отречение от своих заблуждений и, если мог, подписывал этот акт и получал разрешение.
“В день всех святых, в праздник Рождества Христова, – говорилось в разрешительной грамоте, – в празднике Сретения Господня и каждое воскресенье великого поста обращенный обязывается присутствовать в соборе при церемонии в одной рубашке, босиком, с руками, сложенными накрест, и принимать от епископа или пастора удар лозою, кроме Вербного воскресения, в которое будет разрешен. В великую среду он опять должен явиться в собор и будет изгнан из церкви на все время поста, в которое обязан приходить к вратам церкви и стоять во все время богослужения. В святой четверг станет на том же месте и будет снова разрешен. Каждое воскресенье поста он входит в церковь в надежде разрешения и опять становится у врат церковных. На груди постоянно носить два креста цвета, отличного от платья”.
Это покаяние продолжалось от трех до семи лет, смотря по важности преступления, и было самою легкою карой.
В период второй инквизиции примирение с церковью совершалось во время аутодафе. Аутодафе – религиозное действие, дело веры – бывали частные и общие. Первые совершались по мере надобности несколько раз в год, предпочтительно постом; вторые – по случаю важных событий в государственной жизни, восшествия на престол нового государя, рождения инфанта и проч. За месяц до торжества члены трибунала со знаменем впереди отправлялись на главную площадь и объявляли народу о дне аутодафе. То же делали герольды инквизиции при звуках труб и барабанов по всем улицам и площадям. По мере приближения назначенного срока начинались приготовления. На площади против королевского балкона, если предполагалось присутствие короля, возводился помост длиною в двадцать шагов. Сбоку, справа от балкона, строили амфитеатр в 25 или 30 ступеней, покрытый коврами, для членов инквизиции, с балдахином на верхней ступени для великого инквизитора. Слева другой такой же амфитеатр, но без всяких украшений, предназначался для осужденных. Посередине помоста ставился меньший помост с двумя рядами деревянных клеток, куда вводили преступников на время чтения приговоров. Прямо против клеток ставили две кафедры: с одной читались приговоры, с другой произносилась проповедь; перед местами советников воздвигались жертвенники. Для народа тоже устраивались места.
Накануне торжества из церкви выходила процессия: впереди угольщики как цех, прикосновенный к правосудию инквизиции, – они поставляли дрова; за ними доминиканцы и стража. Дойдя до площади аутодафе, процессия останавливалась, на помосте водружались знамя инквизиции и зеленый крест, обвитый черным крепом. Затем кортеж удалялся, исключая доминиканцев, которые оставались на площади и до глубокой ночи пели псалмы. Рано утром площадь наполнялась народом. В 7 часов на королевском балконе появлялись король и королева, придворные чины и высшие представители духовенства. Церковный благовест возвещал о начале церемонии. Ее открывали сто угольщиков с пиками и мушкетами, за ними шли доминиканцы, предшествуемые крестом. За братьями-проповедниками несли знамя инквизиции. Оно было красного цвета, из дорогой материи; на одной его стороне был герб Испании, на другой – меч, окруженный лавровым венком, и фигура Доминика. Впрочем, в различных городах оно украшалось различно. После знамени инквизиции появлялись гранды Испании и офицеры трибунала, наконец – вереница осужденных по степеням наказания. Впереди выступали примиряемые с церковью. Они были босы, с непокрытыми головами. На них была одежда кающихся, так называемое санбенито, род льняного мешка с большим желтым крестом на груди и на спине. За примиряемыми следовали обреченные на бичевание и тюремное заключение. Но главный интерес для толпы представляли осужденные на сожжение. Это были упорные еретики и вторично впавшие в ересь. Измученные пытками и тюремным заключением, они шли со свечами в руках, в льняных санбенито, с бумажными колпаками на головах. У несчастных, пытавшихся протестовать и обличать инквизиторов, рот был завязан бычьим пузырем. Предсмертный костюм этой группы покрывали изображения дьяволов и пламени, направленного вверх. У признавшихся после пытки это пламя направлялось вниз, потому что эти жертвы сперва удавливались и потом сжигались. Около каждого осужденного на смерть находилось по два офицера и по два монаха. В этой же части процессия на высоких древках несли изображения бежавших от суда инквизиции или умерших в темницах, не дождавшись костра. Сжигали их изображение, символически, первых – во всяком случае, вторых – если таково было решение трибунала. Кости умерших находились тут же в деревянных ящиках около фигур осужденных и вместе с этими фигурами возлагались на костер. В хвосте процессии ехала кавалькада советников верховного совета, инквизиторов, духовенства и наконец великий инквизитор в фиолетовом облачении, окруженный стражей. Когда процессия достигала площади аутодафе и участники ее занимали назначенные им места, священник начинал обедню и доводил ее до евангелия. Затем великий инквизитор, надев митру, подходил к королевскому балкону и принимал от короля клятву покровительствовать инквизиции и помогать преследованию еретиков. Такую же клятву давали все присутствующие при церемонии. Начиналась проповедь…
“Если Бог веками терпит наши беззакония, – говорилось в одной из таких проповедей, – то люди вполне справедливо посвящают хотя один день, чтобы отомстить за поношения Бога. Святой трибунал являет сегодня свое усердие к славе Господа, и это место, покрытое преступниками, ожидающими наказания, – живое представление того, что мы увидим однажды в долине Иасафата. Как царь небесный и земной придет судить людей, окруженный своими силами (оратор выражался даже “грандами” для большого сходства) и все святые с ним, так мы видим на суде святой инквизиции величайшего из монархов света, его советников и всех грандов королевства. Когда евреи, читаем мы в святом писании, выбирали царя, они вручали ему вместе с короною книгу закона, и это означало, что тою же рукой, которою он принимал скипетр, он должен был принуждать своих подданных следовать предписаниям религии”… “Утверждать, – говорил далее оратор, – что люди свободны веровать по желанию и что не следует наказывать еретиков, значит утверждать, что не нужно наказывать грабеж, волшебство и смертоубийство… О ты, святейший трибунал веры, оставайся непоколебимым до скончания веков и сохраняй нас чистыми и твердыми в нашей религии. О, как говорит это зрелище об усердии и заботливости инквизиторов! Их величайший триумф – эта толпа преступников, и я могу сказать о трибунале то же, что сказано о церкви: Прекрасна подруга моя, как шатры кедарские, как палатки Соломоновы. Этот день – день торжества и славы трибунала, он наказывает сегодня лютых зверей, врагов религии, и овладевает их достоянием”…
По окончании проповеди начиналось чтение приговоров. Осужденные поочередно выслушивали их на коленях, входя для этого в клетки на помост. Великий инквизитор давал затем разрешение примиряемым с церковью, а осужденных на смерть передавал в руки светской власти.
“Мы объявили и объявляем, – говорилось об этом в сентенции, – что обвиняемый (такой-то) признан еретиком, в силу чего наказан отлучением и полной конфискацией имущества в пользу королевской казны и фиска его величества. Объявляем сверх того, что обвиняемый должен быть предан, как мы его предаем, в руки светской власти, которую мы просим и убеждаем, как только можем, поступить с виновным милосердно и снисходительно”…
Защитники инквизиции ссылаются на эту сентенцию как на доказательство гуманности инквизиции, но эта ссылка грешит наивностью, потому что инквизиторы, умоляя о снисхождении, соблюдали только лицемерную форму и отлично знали, что костры уже заготовлены и ожидают своих жертв. По окончании церемонии, которой и принадлежит собственно название аутодафе, этих жертв, в сопутствии громадной толпы зевак и изуверов, отводили за город на место сожжения. Там для каждого несчастного был отдельный костер. На костре был установлен шест, и к нему привязывали жертву. Желавших умереть, исповедавшись, или, как говорили, по долгу христианскому, и всех сознавшихся после пытки сперва душили, затем под всеми одинаково разводили огонь. Осужденные на сожжение в изображении и кости умерших сжигались в первую очередь, чем только усиливалась нравственная пытка живых страдальцев. Если среди них находились лица духовного звания, тогда церемония усложнялась, к костру являлся папский нунций, епископы и священники. Осужденный стоял среди инквизиторов в полном облачении сообразно своему сану. После приговора читалась особая сентенция.
“Именем Бога всемогущего, Отца и Сына и Святого Духа, властью апостольскою и нашею, мы, посланцы в эти страны, – говорилось в сентенции тулузской инквизиции, – снимаем с тебя твой духовный сан и отрешаем тебя от священнической и других обязанностей, мы низлагаем, лишаем и исключаем тебя от всех церковных бенефиций, духовных прав и привилегий. В силу всего этого мы просим присутствующего здесь благородного сенешаля взять тебя в свое распоряжение и настоятельно предлагаем ему при исполнении наказания поступить с тобою согласно приговору”…
Таким образом, тулузская инквизиция не прибегала, по крайней мере, к лицемерию испанской и не просила снисхождения к преступнику.
Сколько людей погибло на кострах испанской инквизиции и как велико общее число осужденных ею? Льоренте дает на первый вопрос цифру 34.658 и на второй – 290.921 человек. Если верить его словам, один Торквемада сжег 10.220 жертв. В настоящее время эту последнюю цифру уменьшают, но не нужно забывать, что за инквизицией числятся еще многие тысячи униженных, разоренных и изгнанных, и потому итог Льоренте можно считать вполне основательным относительно жертв трибунала и в то же время далеко не выражающим того зла, которое принесла Испании святая инквизиция.
Глава III. Торквемада, мавры и евреи
Торквемада – объединитель Испании. – Мавры и их культура. – Влияние их на испанцев. – Начало освобождения испанцев и нетерпимость. – Торквемада как представитель своей эпохи. – Евреи в Испании. – Начало преследований евреев. – Мараносы. – Нетерпимость и объединение Испании. – Начало борьбы с Гренадой. – Хлопоты Торквемады и опасения Рима. – Падение Гренады. – Условия капитуляции. – Недовольство Торквемады. – Мнимое святотатство евреев. – Декрет об их изгнании. – Заступничество Абарбанела. – Вмешательство Торквемады. – Исполнение декрета. – Распродажа евреями имущества. – Попытки обойти декрет. – Отъезд и гибель эмигрантов. – Радость Торквемады и заботы о трибунале. – Съезд инквизиторов в Вальдоялиде. – Инквизиционный террор. – Торквемада и книги. – Преследование епископов. – Недовольство Рима. – Охрана Торквемады. – Смерть великого инквизитора
В глазах патриотов Испании жестокость Торквемады несколько умаляется сознанием, что он был одним из объединителей этой страны.
После битвы при Хересе де-ла Фронтера, 26 июля 711 года, Пиринейский полуостров, как известно, оказался во власти арабов, и только в горах Астурии, Бискайи и Кастилии сохранились тогда остатки самостоятельности Испании. Это были зерна, из которых опять развилось ее могущество. В 1212 году мавры были уже оттеснены на юг полуострова, где за ними осталось лишь халифатство Гренада. Таково было положение Кастилии и Аррагонии при их соединении под властью Изабеллы и Фердинанда V. Этим правителям предстояло закончить собирание испанской земли, и Торквемада несомненно был их деятельным помощником. В лице первого великого инквизитора и его преемников испанское духовенство выделяет с этого времени из своей среды ряд политиков, сторонников идеи: Испания – для испанцев, и все испанцы – католики, но в применении этой идеи они доходили почти до безумия и в конце концов разрушили то, к чему так ревностно стремились. Первой пробой этой политики было покорение мавров.
Мавры не были варварами вроде татар – завоевателей Руси. Как ни горьки были их победы для испанцев VIII века, это были победы цивилизации. Разбивая противников и вступая в их города, арабы находили какие-то жалкие лачуги, приюты дикарей, невежественных и суеверных. Когда же настала их очередь отступать и сдавать свои крепости, они оставляли победителю культурные страны с трудолюбивым и сведущим населением, богатые города с сокровищами знания и искусства. В Кордове было более миллиона жителей и более 20 тысяч домов. Ее улицы освещались фонарями – неслыханное дело в христианских городах после падения мавров. Почти то же благоустройство царило в Гренаде, Севилье и Толедо. Роскошные дворцы окружены были там садами, где каждая пядь земли говорила о культуре, университеты являлись средоточением науки, которая долго не снилась европейским схоластам, а потом потянула их на костры инквизиции. Араб Альгазен, живший в VII веке, детально опроверг учение греков, что лучи зрения идут из глаза к предмету, и первый трактовал о волосности, тяжести воздуха, высоте атмосферы и ее плотности в зависимости от высоты. Ибн-Джунис изобрел маятник и ввел так называемую арабскую нумерацию. Авероэс комментировал Аристотеля и, полагают, первый пришел к открытию солнечных пятен. В арабских университетах преподавали риторику, математику – как известно, арабам принадлежит основание алгебры – и медицину. Про кордовского врача Альбуказиса сохранились известия, что не было операции, которую он не решился бы сделать. У арабов же впервые зацвела та поэзия, которою восхищались провансальские трубадуры и от которой сходили с ума даже монахи, распевавшие по кельям на языке Горация:
Умереть мне в кабакеРешено судьбою,Пусть же с чашею в рукеВстречу смерть с косою…Вероятно, именно это нечестие возмущало душу благочестивого приора из Сеговии. В соседстве с арабами испанцы мало-помалу усваивали культуру неверных, но, как всегда бывает в этих случаях, это усвоение распространялось главным образом на худшие стороны арабской цивилизации, на то, что подтачивало уже могущество и значение “учителей”. В этом сказалось печальное влияние арабов на испанское общество, они же были косвенными виновниками религиозной нетерпимости последнего.
Спасаясь в горах от арабского владычества, испанцы захватывали с собою церковные святыни, мощи угодников и в самом факте своего спасения уже видели покровительство неба. Первые победы над маврами еще более укрепили это воззрение. Мало-помалу сложились легенды, что сами святые принимали участие в битвах испанцев с неверными. В 844 году апостол Иаков предводительствовал христианским войском, сидя на белом коне и со знаменем с красным крестом на середине. В 1236 году то же сделал св. Георгий: он явился среди сражавшихся и своим мечом даровал испанцам победу… Борьба с арабами велась, таким образом, в союзе с небом, а это говорило о том, что враги испанцев были в то же время и врагами Бога. Целые поколения воспитывались на таких легендах, и даже дети принимали участие в кровавых мечтах об истреблении мавров. Лавалле жестоко ошибается поэтому, когда приписывает нетерпимость Торквемады любовной неудаче в Кордове. Эту нетерпимость Торквемада всосал с молоком матери, ее навевали ему каждое семейное предание, каждая церковная проповедь, каждая песня народа. Отсюда эта воинственная складка в характере сурового аскета и политика кровожадных завоевателей – или вырезать, или изгнать покоренное население. Духовная карьера лишь усилила это настроение Торквемады.
Испанское духовенство еще до нашествия арабов влияло на дела государства и едва ли не раньше римских первосвященников претендовало на раздачу корон. Король Эжика в 633-м году во время толедского собора припадал к ногам епископов и просил у них совета. Епископы следили в то время за судьями и даже требовали, чтобы ни один король не вступал на престол, не дав обещания блюсти святую веру. Победоносное нашествие арабов надолго лишало их этого влияния, и понятно, в их среде не меньше, чем в среде королей в изгнании, таилась глубокая ненависть к завоевателям Испании. Они стремились вернуть себе заманчивое прошлое, отсюда этот тип епископа-воина и политика, ярким представителем которого был Торквемада и затем Хименес. Народные массы, естественно, разделяли симпатии и антипатии своих руководителей.
“Нашествие магометан, – говорит Бокль, – сделало христиан бедными, бедность породила невежество, невежество породило легковерие, лишая людей как способности, так и желания самим что-либо исследовать, усиливало дух подобострастия и поддерживало привычку к покорности и слепое повиновение духовенству”.
Борьба за независимость еще более усилила умственное рабство народа, а это рабство подготовило торжество инквизиции. В борьбе с арабами христианская религия, естественно, являлась общепонятным лозунгом, созывавшим верных под знамена католических государей. Враги их получали поэтому не столько политический, сколько антирелигиозный характер. Это воззрение мало-помалу распространилось и на внутреннюю жизнь народа: все, кто не были христианами, становились врагами этой лучшей из религий, их культы – объектами презрения, их последователи – объектами преследований. В этом отношении инквизицию нельзя рассматривать как нечто, навязанное Испании извне. Как семя, посеянное сеятелем, она упадала на разные почвы, среди различных условий гражданской жизни и не везде всходила и приносила плоды.
Лишь в Испании суждено ей было расцвести пышным цветом и оттуда уже заражать другие страны. И здесь она встретила и встречала сопротивление, но эта оппозиция коренилась в интеллигентной среде Испании, где успели уже отрешиться от духа нетерпимости, – и чем дальше от границы Гренады и ближе к северу, тем больше, – и где зрели уже новые силы и новые начинания… Вот почему инквизиция с особенною яростью преследовала лучших представителей испанской нации. Она опиралась при этом на невежественные массы и неумолимо уничтожала все проявления свободной мысли и независимости. В то время, как Фердинанд и Изабелла, следуя примеру своих предшественников, сковывали Испанию в одно крепкое целое, Торквемада и его преемники по видимости преследуя ту же задачу, – духовное объединение страны – на самом деле лишили ее живого духа и мало-помалу омертвили. Счастливая Испания представлялась им не иначе как единоверной от Пиринеев до Гибралтара, и они вели ее к этому золотому веку, освещая ей путь кострами, наполняя темницы и изгоняя целые народы. Таковы были, между прочим, отношения Торквемады к евреям и мараносам, а его преемников – к маврам, морискам и лютеранам.
Предполагают, что евреи поселились в Испании еще во времена царя Соломона, вероятно, вместе с финикийцами. Другие относят начало этой иммиграции к первому веку христианской эры. Во всяком случае, это пришлое население скоро заняло в Испании видное место не только по количеству, но и по влиянию среди христиан. Причина этого влияния, конечно, коренилась в предприимчивости евреев. Люди, добравшиеся из Палестины до далекого Пиринейского полуострова, не могли не отличаться сильной волей, чувством солидарности между собою, упорством в труде, наконец, умственным превосходством над большинством туземцев. Дворяне Кастилии, Аррагонии и других местностей Испании занимались, главным образом, военными подвигами и веселою жизнью. Торговля, служба в правительственных и частных учреждениях и связанное с ними образование оставались на долю духовных, людей простых и в том числе евреев. У евреев были свои школы и даже академии. Питомцы этих заведений становились докторами, аптекарями, финансистами и даже учеными и между прочим славились своими астрологическими познаниями. Они широко воспользовались в этом отношении цивилизацией арабов, тем более, что завоеватели Испании отличались веротерпимостью и покровительством знанию. Высшие правительственные должности также часто занимались евреями, между ними насчитывают министров и ближайших придворных испанских королей. Все это не могло не возбудить ненависти и зависти к удачливым пришельцам, а народной массе они казались единственными виновниками ее темноты и несчастия. За евреями, конечно, водились грехи, общие всем богатым и влиятельным классам: притеснение бедных, обход и прямое нарушение законов – особенно когда начались преследования Израиля, – но испанские патриоты только у них видели и хотели видеть эти недостатки и даже коллеги евреев по притеснению народа привлекали к ним внимание законодателей и просили защиты простолюдина. Законодатели не оставались глухи к этим воззваниям, и тем более, чем более влияло на них духовенство. Уже в IV веке эльвирским собором были запрещены браки между христианами и последователями Моисеева закона. В некоторых городах евреям отводились особые кварталы, куда они должны были возвращаться с наступлением ночи и выходить оттуда в платье с установленными знаками голубого или зеленого цвета. Эти меры только увеличили рознь между обоими народами; обособленность же евреев как следствие ограничительных законов породила легенды об их враждебности к христианам и о том, что они убивают христианских детей, чтобы воспользоваться их кровью для приготовления опресноков. В невежественной среде испанцев эти толки встречали полную веру, и само духовенство поощряло чувство ненависти к евреям. Так поступил архиепископ Севильи Ниэбла в 1391 году. Под влиянием его проповедей исступленная чернь убила тогда около 7 тысяч еврейских семейств, а других принудила отказаться от своей религии. Во время владычества мавров эта ненависть к евреям в христианском населении только усилилась, потому что у завоевателей Испании евреи пользовались как религиозною, так и гражданскою свободою, и вследствие этого сливались в глазах испанца-католика с общею массою врагов христианства.
При таких обстоятельствах евреи не могли, конечно, особенно сочувственно относиться к возрождению Испании, так как опыт прошлого говорил им, что падение мавров будет началом их собственного падения и таких погромов, как севильский, на отвоеванной испанцами территории. Чтобы избавиться от этих преследований, евреи часто добровольно принимали христианство и вместе с обращенными силою составили особую группу населения Испании – мараносов, которые были первыми жертвами испанской инквизиции. Обстоятельства, предшествовавшие крещению и тех, и других, не могли, конечно, способствовать их твердости в христианской религии, а отсутствие руководства со стороны невежественного католического духовенства вызывало даже у искренних последователей этой религии невольные уклонения в область еврейских обрядов. Эти уклонения и послужили поводом к преследованию мараносов инквизицией. В 1481 году севильский трибунал издал особую инструкцию, в которой указывалось 36 способов отличия истинных христиан от мнимых сторонников католичества из среды мараносов. Достаточно было, например, мараносу, надеть в субботу чистое платье, чтобы навлечь на себя подозрение в тайном иудействе. То же могло случиться, если он пил вино, приготовленное евреем, ел мясо убитого им же животного, читая псалмы, не говорил “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу”, если он в день рождения ребенка обращался к гороскопу и даже если устраивал прощальный обед, уезжая из города. Система доносов, которою пользовалась святая инквизиция, могла доставить во всякое время обвинительный материал на погибель мараноса, и 36 параграфов севильской инструкции были только канвою для этих доносов.